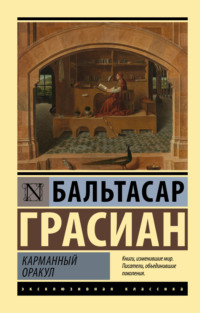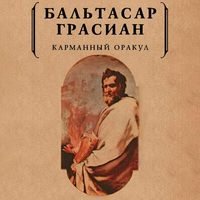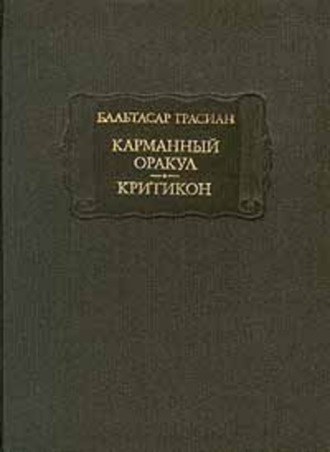 полная версия
полная версияКритикон
– О, какая жалость, – горевал Критило, – что к высокому кедру, к самому пышнолистому дереву, красовавшемуся над всеми прочими, льнет эта бесполезная повилика, тем более бесплодная, чем она краше! Думаешь, она его обнимает, а на самом деле связывает; украшая, сушит; одевая буйной листвой, лишает плодов – словом, в любом смысле грабит, истощает, пьет соки, лишает жизни и уничтожает. Что может быть хуже? А скольким ты вскружила голову! Сколько рысей ослепила, орлов к земле прибила, гордых павлинов заставила опустить чванливый хвост! Скольким мужам со стальной грудью ты размягчила сердце! Что говорить, вселенская губительница мудрецов, святых и героев!
По другую сторону пещеры увидели они злобно глядевшее чудище с ликом личности. Сила его была неимоверная – хватая двумя пальцами и словно бы с отвращением роскошные дворцы, кидало их в бездну Ничто.
– Провалитесь, – приговаривало, – Золотой Дворец Нерона, Термы Домициана, сады Гелиогабала – ничего вы не стоили, ничего полезного не принесли!
Однако этой участи избегли крепкие замки, неодолимые цитадели, воздвигнутые доблестными государями для охраны королевств и обуздания врагов; уцелели знаменитые храмы, обессмертившие благочестивых монархов, и две тысячи церквей, которые посвятил Божьей Матери король дон Хайме [680].
– Проваливайтесь, – говорило чудище, – серали Мурата, дворец Сарданапала!
Но особенно поразило странников то, что чудище точно так же хватало творения таланта и с гримасой презрения кидало туда же. Критило огорчился, видя, что подобная участь грозит одной, сплошь позолоченной, книге, которую чудище намеревалось похоронить в вечном забвении. На просьбу Критило не делать этого, оно с издевкой ответило:
– Э нет, пусть проваливается – сплошная лесть, ни крохи истины, ни смысла!
– Довольно того, – возразил Критило, – что владыка, о коем в ней идет речь и кому она посвящена, даст ей бессмертие.
– Не выйдет, – отвечало чудище. – Ничто так быстро не рушится, как лживая, беспардонная лесть, – она вызывает лишь раздражение.
Швырнуло туда книжонку, а за нею многие другие, приговаривая:
– Туда их, эти скучные романы, бредни больных умов, эти освистанные комедии, напичканные нелепостями и чуждые правдоподобия!
Несколько книжек оно отложило, сказав:
– Эти не тронем, пусть сохранятся для бессмертия, они удачны весьма и забавны своим остроумием.
Критило поглядел на название, полагая, что это комедии Теренция [681], но прочел: «Первая книга комедий Морето» [682].
– Это Теренций испанский, – сказало чудище. – А вот итальянских авторов – туда их!
Критило с удивлением сказал:
– Что ты делаешь? Весь мир будет возмущен – ведь итальянские перья ныне в такой же цене, как испанские шпаги.
– Ну нет! – отвечало чудище. – Многие из этих итальянцев только названия пышные ставят, а за названиями ни правды, ни содержания: большинство грешат вялостью, их писания без перца, они сплошь да рядом лишь портят громкие названия, например, автор «Вселенской ярмарки» [683]. Сулят много и оставляют читателя в дураках, особливо испанца.
Протянуло чудище руку к другой полке и давай с пренебрежением швырять книги. Критило прочитал несколько заглавий, увидел, что то книги испанские, и сильно удивился, тем паче убедясь, что все это историографы. Не в силах сдержаться, он сказал:
– Зачем губить эти сочинения, в коих так много бессмертных подвигов?
– В том-то и беда! – отвечало чудище. – Написанное никак не соответствует свершенному. Уверяю тебя, в мире никто не свершил столько подвигов и столь героических, как испанцы, но никто так дрянно не описывал их, как сами же испанцы. Большинство этих историй подобны жирной ветчине – раз-другой откусишь, и тебя воротит. Не умеют испанцы писать с глубиной и политичным изяществом историков итальянских – какого-нибудь Гвиччардини, Бентивольо [684], Каталина Давила, Сири [685] и Вираго [686] с их «Меркуриями», последователей Тацита. Поверьте, у испанцев не было гения в истории, как у французов – в поэзии.
Впрочем, из некоторых книг оно сохраняло отдельные страницы, прочие же бросало целиком, даже не раскрывая, в бездну Ничто и твердило:
– Ничего не стоит, ничего!
Критило, однако, заметил, что несколько произведений португальских авторов чудище отложило.
– То были великие таланты, книги их обладают и телом и душой.
Изрядно смутился Критило. видя, что оно протягивает лапу к некоторым богословам – как схоластам, так и моралистам и толкователям. Заметив его смятение, чудище молвило:
– Видишь ли, большинство из них лишь перелагают да повторяют то, что уже было сказано. Одержимые зудом печататься, мало добавляют нового, мало, а то и вовсе ничего, не изобретают.
Одних комментариев на первую часть Святого Фомы [687] чудище пошвыряло с полдюжины, приговаривая:
– Туда их!
– Что ты сказал?
– То, что сказал; а вы делайте то, что я сделал. Туда их, эти толкования как эспарто, сухие, оплетающие напечатанное тысячу лет тому.
Что до законников, они летели в яму целыми библиотеками, и чудище сказало, что, будь его воля, сожгло бы их все, кроме нескольких. А уж врачей швыряло подряд – в их вранье, дескать, ни складу, ни ладу.
– Сами посудите, – говорило оно, – даже оглавления не умеют путем составить, а ведь их учителем был сам чудодей Гален.
А пока Критило глядел на дела чудища, Андренио приблизился к устью пещеры и поставил было ногу на скользкий ее порог. Но к нему подбежал Честолюбивый и молвил:
– Куда ты? Неужто и тебе охота стать ничем?
– Оставь меня, – отвечал Андренио, – я вовсе не собираюсь входить, только отсюда погляжу, что там происходит.
Честолюбивый, расхохотавшись, сказал:
– Чего глядеть! Ведь все, что туда попадает, обращается в ничто.
– Ну, хоть послушаю.
– И это не выйдет – что туда угодит, о том больше ни слуху, ни духу.
– Хоть кликну кого-нибудь.
– Каким образом? Ведь там ни у кого нет имени. Не веришь? Сам подумай – от несметного множества людей, что прошли за столько веков, что осталось? Даже памяти нет, что жили, что были такие люди. Известны имена лишь тех, кто отличался в ратном деле или в словесности, в правлении или в святости. А взять пример поближе, скажи-ка – в нынешнем нашем веке, средь многих тысяч, что населяют земной шар в столь многих краях и королевствах, кто имеет имя? С полдюжины мужей государственных и, пожалуй, того менее – мудрых. О ком говорят? О двух-трех королях, о нескольких королевах, да об одном святом отце [688], что воскресил память о Львах и Григориях. Все прочие – для числа, одна видимость, они только поглощают пищу и умножают количество, но не улучшают качества. Но на что ты уставился, ведь ты там ничего не видишь?
– Гляжу, – отвечал Андренио, – что в мире есть нечто, еще меньшее, чем ничто. Скажи, жизнью твоей заклинаю, кто вон те, что даже в царстве Ничто оказались в тени?
– О, – отвечал Честолюбивый, – про ничто можно сказать многое! Они суть…
На сем, однако, с твоего, читатель, соизволения, мы оставим их до следующего кризиса.
Кризис IX. Обретенная Фелисинда
Рассказывают, что некоему любопытному – я бы назвал его глупцом – взбрело на ум отправиться в странствие по земле, и даже вокруг нее, в поисках – чего бы вы думали? – Довольства. Вот пришел он в одну страну и принялся расспрашивать – сперва богатых, полагая, что они-то довольны, ведь богатство всего достигнет и деньги все добудут, но не тут-то было, оказалось, что богачи вечно озабочены и удручены. То же увидел он и у властителей, их жизнь – сплошные огорчения и неприятности. Направился к ученым – те тоже в унынии, сетуют на невезение; у молодых нет покоя, у стариков нет здоровья – словом, все в один голос отвечали, что довольства не ведали и никогда не видели, хотя от стариков слышали, что оно как будто проживает в соседнем краю. Отправился Любопытный туда, опять стал допытываться у сведущих людей, и те отвечали то же самое – в их стране, дескать, довольства нет, но говорят, оно есть в соседней. Так ходил он из страны в страну, и повсюду ему говорили: «Здесь нет, оно там, подальше, еще дальше». Дошел он до Исландии, оттуда в Гренландию, пока не очутился в Туле [689] – шпиле мира, и, услыхав и здесь ту же песню, прозрел наконец и понял, что был слепцом, что пребывал во власти пошлого заблуждения, свойственного всем смертным, – с самого рождения своего ищут они Довольство и никогда его не обретают, переходя из одного возраста в другой, от одного занятия к другому, в постоянной жажде его достичь. Люди одного сословия знают, что у них его нет, но думают, что оно есть в другом сословии, и называют тех счастливцами, а те полагают счастливыми других – так люди находятся во власти всеобщего заблуждения, которое живет и жить будет, доколе будут на свете глупцы.
То же произошло и с нашими двумя, что пошли по миру странниками, по пути жизни путешественниками, – ни в суетном Тщеславии, ни в низкой Праздности не нашли они желанного покоя и посему не избрали себе жилищем ни дворец Суетности, ни пещеру Ничто. Андренио все стоял на пороге пещеры, допытываясь, кто же они, те люди, что проваливаются в Ничто.
– Это людишки, – отвечал Воображала, – которые еще меньше, чем ничто.
– Как это мыслимо? Разве можно быть меньше, чем ничто?
– Вполне.
– Так кто же они?
– Кто? Они – ничтожества, ибо живут ничтоже сумняшеся, называют же их «дрянцо», «мразь», «мерзавчики», «паршивчики». Гляди, гляди на того – как хорохорится, а сам-то с ноготок, а вон тот – ни чела, ни века, а туда же слыть хочет человеком.
– Ну и гадкая козявка вон та, что скачет туда-сюда!
– И знай, сердчишко у нее презлобное. Ты увидишь тут людей из плоти, ставших мумиями, и мумий на месте тех, кому быть бы надо первыми людьми. О, здесь тьма теней без тел и тьма марионеток, от коих и тень сплошная и темь; громкие титулы на пустом месте, пустые звания без знания. Кругом безличные личины и недостойные своей статуи истуканы. Увидишь магнатов, что едят на золоте, погрязших в грязи и навозе порока. Легионы рожденных, не дошедших до жизни, и сонмы умерших, что так и не жили. Вон те были львами, но, залегши в норе, стали зайцами; а те выросли как грибы, невесть как и отчего. Увидишь эпикурейцев, прикидывающихся стоиками, и фанаберию, слывущую философией; издали – слава, вблизи – одни слова. Увидишь, что те, кто наверху, неприглядны, а знатных родов потомки ходят с котомкой; увидишь красавиц, потерявших стыд и вид, и чем краше, тем гаже; увидишь, что слава нетленная не даруется тем, у кого чрево ненасытное, и что самые сытые умирают с голоду; увидишь, что лишь те, кому все нипочем, знают что почем, и что богачами слывут те, у кого даже имя собственное не собственное. Не услышишь «да» без «нет», зато на каждом слове «но». Увидишь, как у беспечных в трубу вылетает весь дом, а то и дворец, и что, кому на все начихать, тех продают чохом. Увидишь немало рубак, что рубят сплеча все, кроме врага, – из-за этаких воинов никак не кончаются войны. Увидишь, что от зелена вина не жди плодов, и что молодо-зелено не всегда дает зерно. Увидишь морщины на незрелых ягодах и хоть иссохшие, но гладкие изюмины. Узнаешь, что удачным мыслям нет удачи и что за острую шутку достается не на шутку, что великие таланты без талана, а у кого избыток книг, тем не хватает знаний. Услышишь галдеж безумствующих и вопли с ума тронувшихся. Кому бы след быть Цезарями, те и следа не оставили, а у старых воинов в доме ни копья. Увидишь всю низость высокомерных и как они чванятся бог весть чем, а вернее, ничем. Искать будешь людей, а встретишь нелюдей, подумаешь – парча, ан то дерюга. У кого золотое сердце, у того нет золотых монет, и не жди почета, коли не знаешь деньгам счета. Дары да подарки не за труды, а задаром. Короче, увидишь, сколь велико Ничто и как тщится Ничто стать всем.
Долго еще говорил бы Честолюбивый, ибо много имел чего сказать о Ничто, но Ленивый прервал его – подступил к Андренио и попытался приступами вялости свалить беднягу в злосчастную пещеру, утопить в топи Ничто. Честолюбивый же, не будь плох, схватил Критило и стал его тащить ко дворцу Суетности, наполняя мозги ветром. То два роковые рифа для старости, две противоположные крайности, в одной грозит гибель от праздности, в другой – от суетности. Единственным спасением для странников было подать друг другу руки, умеряя себя и удерживая один другого на спасительной средине меж пагубных крайностей. Затем, ухватив Случай, который хоть и сед, но не лыс, они с помощью рассудка и благоразумия ушли от грозившей гибели.
Одержав сию победу, они, дабы снискать триумф, направились в извечно царственный Рим, героическую арену бессмертных деяний, венец мира, владыку городов, сферу великих талантов, ибо во все века, даже в самые громкие, могучие орлы летели в Рим шлифовать ум – даже испанцы Лукан [690], Квинтилиан [691], оба кордовские Сенеки [692], бильбилитанцы Лициниан и Марциал [693], – в сей престол светозарный, ибо в Риме сияет – весь мир озаряет; сей феникс времен, ибо другие города гибнут, а Рим возрождается и в веках утверждается; царство всего наилучшего, столица мира, ибо Рим вмещает весь мир. Да, кто видел Мадрид, видел только Мадрид; кто видел Париж, видел только Париж; кто видит Лиссабон, видит Лиссабон, но тот, кто видит Рим, разом видит все эти города и любуется сразу всем миром; Рим – вершина земли и благочестный вход на небо.
Если раньше пилигримы наши чтили Рим издали, то теперь восхищались им вблизи. Прежде, нежели их следы отпечатались на его земле, печать их лобзаний почтила священные пороги; с благоговением вступили они в это поп plus ultra земли и tanto monta [694] неба. Ходили они по городу, дивились его новинкам, что кажутся древними, и древностям, что вечно новы. Любознательную их приметливость приметил некий достойный человек и, учтиво к ним подойдя, осведомился, кто они. После нескольких искусно заданных вопросов он понял, что они странники, а они догадались, что он человек странный, – и впрямь он мог бы давать уроки зоркости самому Аргусу, проницательности – Ясновидцу, предусмотрительности – Янусу, понимания – самому Дешифровщику. И немудрено, ведь то был старый придворный, прошедший немало курсов в Риме, испанец, привитый к итальянцу, иначе сказать, чудо-человек – человек известный и сведущий, обладавший двумя преимуществами – тонким умом и тонким вкусом и вдобавок таким знанием жизни, о каком пилигримы и мечтать не могли.
– Как я вижу, – молвил он, – вы много прошли, но мало продвинулись; прийти бы вам спервоначалу к этому эпилогу политичного мира, вы сразу бы узнали и узрели все наилучшее, добравшись кратчайшим путем до вершины всех достоинств. Знайте, ежели прочие города славятся как мастерские дивных изделий (в Милане куют непробиваемые доспехи, в Венеции делают чистейшее стекло, в Неаполе ткут богатые ткани, во Флоренции гранят драгоценные камни, в Генуе копят дублоны), то Рим – мастерская великих людей: здесь куются умы, оттачиваются таланты, здесь люди становятся личностями.
– И ежели счастливы те, кто живет в больших городах, – прибавил другой римлянин, – ибо в них собрано все лучшее и превосходное, то в Риме живешь две жизни и наслаждаешься многими. Это собрание диковин и средоточие чудес, здесь найдете все, чего ни пожелаете. Одного лишь не найдете.
– И, наверно, это одно, – заметили пилигримы, – как раз и будет тем, что мы ищем. Обычная подлость фортуны.
– А что вы ищете? – спросили у них.
И Критило в ответ:
– Я – супругу.
А Андренио:
– Я – мать.
– А как ее зовут?
– Фелисинда.
– Сомневаюсь, чтобы вы нашли, ибо имя ее сулит блаженство. Но что вам известно о ее местопребывании?
– Она, кажется, живет во дворце посла католического короля [695].
– О, знаю, знаю, он же – король послов! Вы прибыли удачно, а это залог счастья: нынче вечером я как раз туда направляюсь, там собираются блистательные умы, дабы приятно провести время в изысканной академии. Посол – вельможа необычных склонностей, порожденных величием духа. Нередко сиятельные ослы находят приятность в породистых лошадях – иначе сказать, всего лишь в скотах! – другие в борзых – собачья страсть! – иные в собирании досок и холстов – размалеванных предметов! – а кто в драгоценных камнях, и ежели в одно прекрасное утро человечество проснется протрезвев, то все они окажутся неимущими. Тогда как испанскому послу любо окружать себя людьми ума и дарования, быть в общении с личностями – да, о человек; всегда суди по его друзьям.
Итак, придя в сей приют талантов, странники вошли в просторный и богато украшенный зал, театр Аполлона, обитель его изящных Граций и хоры для изысканных его Муз. Большой радостью было для них видеть и узнавать самых даровитых сочинителей нашего времени, людей столь замечательных, что каждый мог бы составить честь века и гордость нации. Придворный называл их по очереди, сообщая нечто о каждом:
– Вон тот, который говорит no-латыни на французский лад, это Баркли [696], осыпанный хвалами за то, что писал не на простонародном языке. А другой, мечущий остроумные инвективы и лучше всех умеющий говорить колкости, это Боккалини. Познакомьтесь с Мальвецци, философом в истории, правителем в пределах самого себя. Вон тот, подлинный Тацит, – это Энрико Каталина. А тот, кто набивает шутками, мемориалами, письмами и депешами золотую ткань своего «Меркурия», это Сири. За ним по пятам идет его антагонист Вираго, менее острый, но более правдивый. Поглядите на итальянского Гонгору, только чуть слабее, имя его Акилини [697]. А тот красноречивейший полиантеист – это Агостино Маркарди [698].
Так назвал он и многих других выдающихся писателей с сильной мыслью и изящным слогом. Вот все уселись и угомонились – взоры со вниманием и ожиданием вперились в Марино, который, исполняя обязанности секретаря, для начала прочитал один из самых знаменитых своих моральных сонетов, начинающийся словами:
Едва родился человек на свет,Глаза его уже для слез открыты [699].Правда, он не избежал критики за не вполне удачное заключение – перечислив многие беды долгой жизни человеческой, поэт заключил:
От колыбели до могилы – шаг.Прочитав сонет, Марино продолжал так:
– Все смертные ищут счастья – верный знак, что ни у кого его нет. Ни один человек не доволен своей долей, ни той, что дало небо, ни той, что сам нашел. Нищий солдат превозносит прибыли купца, а тот – фортуну солдата; законовед завидует простодушному, честному крестьянину, а этот – вольготной жизни придворного; женатый завидует свободе холостяка, а тот – женатому, имеющему любезную подругу. Одни почитают счастливыми других, а те – первых, никто не доволен своей судьбой. Юноша надеется найти счастье в наслажденьях и слепо отдается им, чтобы прийти к прозрению ценою горького опыта; мужчина ожидает счастья от доходов и богатства, старик – от почестей и званий; так переходим мы от одного увлечения к другому, ни в чем не находя истинного блаженства. Об этом весьма остро уже сказал сентенциозный поэт [700], но он только поднял дичь, не убил ее, не нашел решения; отыскать решение предоставляется нынче вашему остроумию. Вот и тема на сегодняшний вечер: обсуждение того, в чем состоит человеческое счастье.
Так закончил речь Марино и обернулся к Баркли – скорее случайно, чем умышленно, – приглашая выступить первым. Испросив позволения у сиятельного хозяина и поклонясь ему и секретарю, Баркли начал так:
– Что до вкусов, я слышал, что о них не спорят и что нечего дивиться ежели одна половина человечества смеется над другой У каждого свой нрав и вкус, посему мне смешны эти хваленые мудрецы, определявшие, в чем счастье, один говорил, что в почестях, другой, что в богатстве; этот – в удовольствиях, тот – в знании жизни; один превозносил науки, другой – здоровье. Повторяю, мне смешны все эти философы, когда я вижу, сколь различны вкусы: ежели тщеславный стремится к почету, распутный смеется и над ним и над его стремлением; ежели скупец мечтает о сокровищах, мудрец их презирает Итак, я сказал бы, что счастье каждого не в том-то или в том-то. но в достижении желаемого и в наслаждении тем, что ему по вкусу.
Рассуждение весьма понравилось, долго раздавались хвалебные возгласы, наконец взял слово Вираго.
– Не надо забывать, господа, – начал он, – что большинство смертных свои вкусы направляют дурно, находя порою удовольствие в вещах низких и разумной нашей природы недостойных. На одного любителя книг сотня любителей карт; этому по сердцу благие музы, тому – коварные сирены Итак, прошу понять, что счастье куда чаще не в том – о нет! – чтобы удовлетворить склонность, тем паче недостойную. Но даже при самом хорошем и возвышенном вкусе человек никогда не бывает доволен, на чем-то одном не останавливается – о нет! – достигнув одного, тотчас пресыщается и ищет другое, само непостоянство свидетельствует о недостигнутом счастье. Казалось бы, сколько счастья даровано людям знатным и могущественным, а вот же сказал о них некто – и метко сказал! – что все они привереды: нынче кривятся от того, что вчера хвалили, завтра хулить будут то, чего добиваются сегодня; каждый день подавай им новенькое, каждую минуту развлекай по-новому.
Этим началом оратор перечеркнул успех первого мнения и подстегнул жажду слушателей узнать его собственное, которое он изложил так:
– Всеми учеными признается правило, что благо состоять должно из всех своих причин, вмещать все свои части, вплоть до ничтожнейшей, – в благе они есть все с избытком, тогда как для зла довольно, ежели нет чего-то одного. И ежели таково требование ко всякому благу, что ж говорить о благе полном и совершенном блаженстве? Приняв как предпосылку сию максиму, рассмотрим ее следствия. Велика ли радость вельможе располагать всеми удобствами жизни, ежели нет здоровья, чтобы ими наслаждаться? Что толку скупому в его сокровищах, ежели он не смеет ими пользоваться? Много ли радости ученому от знаний, ежели нет друзей, чтобы с ними поделиться? Итак, я утверждаю, что не удовлетворюсь малым; я хочу всего и полагаю, что человек, чтобы называться счастливым, должен обладать всем, – лишь тогда он ничего не будет желать. Откуда следует, что блаженство человеческое состоит в совокупности всех так называемых благ – почестей, удовольствий, богатства, власти, силы, здоровья, учености, красоты, изящества, счастья и друзей, с кем можно всем этим наслаждаться.
– Превосходно! – воскликнули многие. – Остальным уж и говорить не о чем.
Но вперед выступил Сири, и все насторожились: как он сию контроверзу разрешит.
– Я вижу, – сказал Сири, – вас привела в восторг эта химерическая гора удовольствий, фантастическая махина благ, но прошу помнить – столь же легко ее вообразить, сколь невозможно обрести. Кто из смертных когда-либо достиг вожделенного сего блаженства? Крез был богат, но не мудр; Диоген был мудр, но не богат. Кто имел все? Но допустим, человек достиг всего – в тот день, когда ему нечего больше желать, он станет несчастен. К тому же есть несчастье от счастья: иные вздыхают и кривятся от пресыщения, им плохо, ибо слишком хорошо. Александр, завоевав весь этот мир, вздыхал по мирам воображаемым, о коих, как он слышал, нес бредни один философ [701]. Нет, я предпочитаю блаженство более близкое и доступное, и посему держусь мнения противоположного, утверждаю обратное. Я отнюдь не согласен, будто блаженство состоит в том, чтобы иметь все, но, напротив, вижу его в том, чтобы не иметь ничего, не желать ничего, все презирать; это и есть единственное блаженство возможное и доступное, блаженство разумных и мудрых. Чем больше имеешь вещей, тем больше от них зависишь, и ты тем несчастней, чем в большем числе вещей нуждаешься, – так, больному нужно больше, чем здоровому. Лекарство для водяночного не в том, чтобы побольше пить воды, но в том, чтобы умалить жажду; то же скажу и о честолюбце и о скупце. Кто довольствуется самим собою, тот и разумен и счастлив. К чему чаша, когда напиться можно из пригоршни? Кто ограничит свои желания куском хлеба да глотком воды, тот вправе спорить за звание счастливого с самим Юпитером, говорит Сенека [702]. И в заключение скажу: истинное блаженство не в том, чтобы иметь все, но в том, чтобы не желать ничего.
– О, теперь уже больше и слушать-то нечего! – воскликнули все в один голос.
Однако и это мнение долго не продержалось. Вскоре все умолкли, чтобы выслушать рассуждение Мальвецци.
– Что до меня, господа, я бы сказал, что подобное мнение порождено скорее меланхолической склонностью к парадоксам, чем верным пониманием жизни, и представляет стремление благородную человеческую природу обратить в ничто. Ничего не желать, ничего не домогаться, ничем не наслаждаться – да что это, как не уничтожение удовольствия, убиение жизни и сведение всего к ничему? Ведь жизнь не что иное как наслаждение благами и умение их достигать – блага природы, равно как и искусства, – благочинно, благопристойно и умеренно. Я не согласен, что лишать человека всего означает совершенствовать его – нет, это полное его уничтожение. К чему тогда совершенства? К чему различные занятия? Для чего создал Верховный Мастер такое разнообразие вещей, столь прекрасных и совершенных? К чему тогда доброе, полезное и приятное? Ежели бы нам запретили непристойное и дозволили подобающее – куда ни шло, но стричь под одну гребенку и доброе и злое, вот, право же, странная причуда! Посему я бы сказал так (понимаю, что в ученом споре это звучит необычно, но в затруднительном положении надо смело идти на приступ), итак, я говорю: счастливым и блаженным можно назвать того, кто полагает, что счастлив, и напротив, несчастливым будет тот, кто полагает себя несчастливым, сколько бы разных благ и приятностей ни окружало его; я хочу сказать, что жить – значит, жить с удовольствием, что лишь довольные живут. Какая радость человеку обладать многими и ценными благами, ежели он их не замечает и даже мнит несчастьями? И напротив, пусть у другого нет ничего, но ежели он доволен, этого довольно. А довольство – это жизнь; и жизнь в удовольствии – истинное блаженство. Тут уж все пришли в восхищение и зашумели: