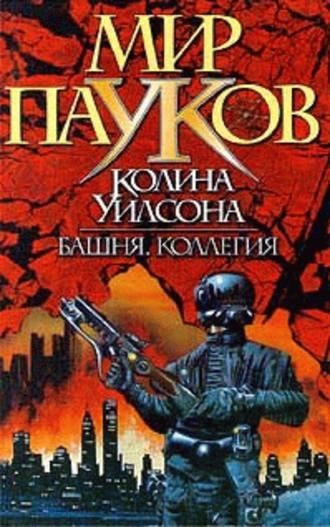 полная версия
полная версияБашня
– Любопытный вывод. Может, прелесть такой жизни и состояла в приближении к божественному. А в целом создатели пищепроцессора были озабочены сугубо будничными проблемами. Божественного в них было не больше, чем в управителе Каззаке или твоем отце.
Сам Найл просто млел от восторга, что полностью понимает смысл слов старца, два-три часа назад такая речь была бы выше его разумения.
– Как же ты, интересно, научил меня читать?
– Сравнительно простая методика, называется обучением во сне. Знание напрямую вводилось прямиком в клетки памяти твоего мозга.
– Почему ты заодно не вел знания о создателях пищепроцессора?
– Сделай я это, ты бы потерял вкус к самостоятельному постижению. А удовольствие такого рода – наисущественнейшая часть всякого обучения.
Теперь, попривыкнув уже к старцу, Найл стал замечать, что его реакциям чуть недостает спонтанности.
Не знай Найл изначально, что Стигмастер – творение человеческих рук, он бы, скорее всего, ничего и не заподозрил; лишь подумал бы, может, что возраст делает старика слегка нерасторопным.
А теперь он видел, что набор человеческих реакций Стиига и впрямь ограничен.
Старец улыбался в нужные моменты и вовремя кивал при разговоре, облизывая языком губы, почесывал указательным пальцем нос, но при всем при этом имел рассеянный вид, а на обдумывание ответа у него уходила секунда-другая.
Не было между собеседниками той потаенной приязни, что возникает у обычных людей во время разговора.
А попытка настроиться на мыслительную волну собеседника вообще ничего не давала. Там ничего не было; лишь туманная зыбкость, будто он общался с тенью.
– Увы, я действительно далек от совершенства, – вздохнул старец. – Ко времени эвакуации возраст компьютеров у людей насчитывал лишь два с половиной столетия. К настоящему времени они, несомненно, усовершенствовали у себя компьютерные голограммы так, что те вообще перестали отличаться от людей. – А как тебе удается читать мои мысли?
– Языковые области твоего левого полушария работают по нехитрой схеме. Когда твои мысли имеют словесные аналоги, Стигмастер может их расшифровать. А вот чувства твои и интуитивные проблески он выявлять не может. В этом отношении твой мозг куда изощреннее.
– Если б я тебя еще и понимал. Что такое «языковая область»?
– Проще показать, чем объяснить словами.
Давай вернемся.
Поднявшись, Стииг запихнул обратно ногой свой стул. Найл любовался четкостью его реакций. Не зная наперед, невозможно предположить, что это лишь бесплотный дух.
Когда возвратились в картинную галерею, солнце там поднялось уже на свою полуденную высоту.
– Это всамделишное солнце? – поинтересовался Найл.
– Нет. Будь оно настоящим, ты бы при его свете видел город пауков. Больше ни о чем спрашивай, договорились? Всего лишь через несколько часов сможешь на все ответить сам. Иди-ка, ложись на прежнее место.
Найл снова устроился на кушетке под голубым металлическим балдахином.
И опять, едва тело утонуло в податливой материи, сверху затеплился свет.
Юношу снова захлестнула кроткая, несущая покой и умиротворение волна. Она проникала в каждую клеточку, принося невыразимое блаженство.
Но провала в забытье на этот раз не было. Найл смутно чувствовал, что где-то над головой образовалась некая точка – словно невидимое око уставилось из-за матового стекла, переправляя прямо в мозг звуковые и зрительные сигналы.
Странный процесс, с налетом некоторой иллюзорности.
Одновременно с тем где-то в области грудной клетки раздавался голос.
Впрочем, голосом это можно было называть сугубо условно.
Это была не обычная человеческая речь, а калейдоскоп понятий и умозрительных образов, вызывающих в мозгу огоньки озарений и рождающих встречные импульсы-отклики, что бывает, обычно, когда слышишь человеческую речь.
Закрыв глаза, Найл увидел мысленным взором панораму паучьего города – как тогда, когда она впервые открылась ему меж двух холмов.
Город исполинских столбовидных башен (Найл теперь знал, что называются они небоскребами), разделенный надвое широкой рекой.
Город неожиданно сместился вниз, словно Найл воспарил над ним. Минуту спустя ему открылось море и бухта из громадных каменных блоков.
Затем город и бухта стали убывать в размерах, пока не уменьшились до ничтожной точки на широкой зеленой плоскости равнины. Стала видна земля на другом берегу залива и красная пустыня по ту сторону гор.
Где-то там пещера, в которой лежит мертвое тело отца.
Едва Найл, встрепенувшись, попытался сосредоточить взор, как умозрительный образ обрел четкость и обозначились контуры обширного плато, а также большого соленого озера к югу от Диры.
Тут его снова понесло вверх, но открылась земля к югу от соленого озера и к северу от города пауков.
Скорость возрастала, пока не начало казаться, что плоская поверхность земли плавно выгибается, а зеленые плоскости равнин внизу подергиваются голубоватым отливом, оттеняя темную пучину моря.
Постепенно Земля обрела вид мохнатого клубка, медленно кружащегося в бездонном пространстве.
Звезды – крупные, яркие, переливающиеся – напоминали освещенные изнутри кристаллы льда.
Висящее справа солнце имело вид готового лопнуть пылающего ядра, такого ослепительно яркого, что глаза ломило от света.
Луна отсюда походила на огромный серебристый шар.
Чудно сознавать, что это круглое тело всегда представлялось ему золотистым блюдцем, плывущим сквозь облака.
И хотя солнце освещало лишь часть лунной поверхности, Найл ясно различал также ее ранее затененные области, выхваченные светом звезд.
Не успел он опомниться, как его уже занесло далеко в космическую бездну.
Он зависал над плоскостью Солнечной системы, в такой дали, что само Солнце казалось не больше человеческого зрачка.
Найл одну за другой угадывал кружащиеся по эллиптическим орбитам планеты.
Вон Меркурий – раскаленное докрасна железное ядрышко с поверхностью, сморщенной, как ссохшееся, пролежавшее свой срок яблоко; Венера, окутанная вуалью серого тумана; промерзшие рыжие пустыни Марса; красный гигант Юпитер, сплошь состоящий из бурлящей жидкости; Сатурн – сизый странник, разбухший ком замерзшего водорода; Уран, Нептун и Плутон, где температура такая низкая, что сами планеты немногим отличаются от округлых ледяных глыб, кружащихся в пространстве.
От одного лишь размера Солнечной системы, холодея, заходился ум.
С орбиты Плутона Солнце казалось не больше горошины, а Земля – вообще едва различимой былинкой. Вместе с тем, даже ближайшие звезды находились на расстоянии столь же далеком, как земной экватор от полярных шапок.
Обратив внимание на собственную персону, Найл потрясенно понял, что совершенно утратил память о том, кто он сам такой.
Переживаемое обуревало настолько, что сознавать свое наличие было как-то нелепо.
Прежде Найл, случалось, «растворялся» в собственных грезах или в историях, которые рассказывала мать или дед.
От них в свое время тоже разгоралось воображение, но сравнивать это с тем, что он видел сейчас, было все равно что сопоставлять искорку и фейерверк.
Оторопелый, он не смел перевести дух, словно человек, внезапно очнувшийся от сна.
Душа содрогалась от буйства непостижимых сил.
Хотелось задать тысячи вопросов, побывать на каждой из этих планет, а затем тотчас ринуться в путь через космос к другим мирам и звездным системам. При мысли, что непознанного такая бездна, а собственная жизнь так ничтожно коротка, сердце сжималось от горестного, беспомощного чувства.
Средь сонма безутешных мыслей, вихрем проносящихся в сознании, бессловесный внутренний голос посоветовал успокоиться.
Темные мысли рассосались, схлынули; вместо этого Найл ощутил в себе ровную и стойкую тягу к знанию, желание всю оставшуюся жизнь посвятить постижению и освоению нового.
– Задавай любые вопросы, – послышался голос старца. – В Стигмастере содержится все человеческое знание. Тебе решать, что необходимо узнать.
– Ты можешь рассказать о Земле до прихода смертоносцев, и о людях, что построили этот город?
– Для этого нам надо будет возвратиться примерно на пять миллиардов лет назад, к зарождению Солнечной системы…
Когда Найл снова закрыл глаза, голос исходил уже не от старца, а откуда-то изнутри.
В глазах стояла нестерпимо яркая вспышка, заполняющая, казалось, все обозримое пространство, из центра, словно щупальца некоего спрута, с устрашающей силой вырывались спиралевидные струи газа.
Тяжко ворочающейся буче не было конца, а в космосе одна за другой выбрасывались гигантские волны бушующей разрушительной энергии.
Затем все, хотя и медленно, но как-то понемногу улеглось, и под силой собственного тяготения взрыв, устремленный наружу, превратился во взрыв, направленный внутрь.
В неописуемом коловороте принялись вращаться выпущенные некогда наружу газы, которые теперь тянулись обратно.
В набирающем лютость космическом холоде жар постепенно истаивал, пока газы не остыли в круглые капли жидкости. Спустя полмиллиарда лет капли эти сконденсировались в десять планет.
Некоторые из них, вроде Меркурия, были так горячи, что не могли образовать и удерживать атмосферу.
Другие – Марс, например, – были чересчур маленькими и холодными. Только Земля, расположенная примерно в сотне миллионов миль от Солнца, была и не слишком горячей и не слишком холодной.
Формирование планеты проходило так же бурно, как и зарождение.
Кометы и астероиды крушили поверхность, взбивая ее в месиво кипящей слякоти.
Целых два миллиарда лет прошло, прежде чем Земля остыла, превратившись из кипящей адской печи в планету с морями и континентами.
К этому времени она тысячекратно сжалась в сравнении со своим первоначальным размером.
Солнце тоже постепенно сжималось, пока не достигло того порога, за которым начались те самые ядерные реакции, превратившие его из темного кома в однородную красновато-бурую массу, а затем уже – в полыхающую атомную печь.
Ультрафиолетовые лучи светила проникли сквозь тонкую земную атмосферу – в основном, водород и аммиак – и вызвали неописуемые по своей силе электромагнитные бури. По мере того, как лучевой бомбардировке подверглись газы и водяные испарения, начали формироваться первые сложные молекулы – сахар и аминокислоты.
Появилась и молекула под названием ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, – имеющая уникальное свойство размножаться. ДНК и сотворила первейшую форму жизни на земле – бактерии.
Бактерии были наделены одним незамысловатым инстинктом: поглощать органические образования, плавающие вокруг них в теплом океане, и похищать их энергию.
Начало жизни было положено энергетическими вампирами.
На этой первоначальной стадии жизнь чуть не стала жертвой собственного размаха. Бактерии множились так обильно, что вскоре поглотили основную часть органических соединений в океане.
Жизнь угасла бы так же быстро, как и возникла, не выкинь одна из бактерий необычный фокус: она научилась вырабатывать собственную пищу, впитывая энергию солнечных лучей.
С помощью процесса, известного как фотосинтез, бактерии научились вырабатывать сахар из двуокиси углерода и воды.
Солнечный свет они впитывали особым химикатом, хлорофиллом, который придавал крохотным организмам зеленый цвет.
И вот уже скалы всех материковых шельфов Земли – их тогда было четыре – оказались покрыты пятнами скользкого зеленого вещества, первых водорослей. Они стали пить из земной атмосферы углекислоту и превращать ее в кислород.
Прошел еще невероятно длинный период, на протяжении которого земная атмосфера беспрестанно обогащалась кислородом. И опять жизнь оказалась в опасности, став жертвой собственного успеха, – поскольку, что касается растений, то кислород для них яд, и планета, на которой обитают только они, погибла бы от нехватка углекислоты.
Но прежде чем это произошло, появилась еще одна форма жизни: форма, способная впитывать кислород и превращать его в углекислоту.
Плавучие студенистые комочки стали первыми животными.
Глядя на Землю, такую, какой она была миллиард лет назад, Найл видел мирную и статичную планету, теплые моря которой ласково лизали берега голых материков – вернее, одного голого материка, поскольку четыре тогдашних континента, сдвинувшись вплотную, слились, образовав одну гигантскую территорию, известную геологам под названием Пангея.
Ничего не происходило на том безмятежном куске суши. Потому что, как ни странно, здесь не было смерти.
Примитивные амебы, черви и водоросли теряли свои старые клетки, но взращивали новые, и так до бесконечности.
И вот тут каким-то образом жизнь изобрела смерть, породив те самые немыслимые сложности эволюции.
Случилось так, что маленькие существа научились производить себе подобных – родитель теперь умирал, а молодая особь вступала в жизнь.
Существо, живущее долгие миллионы лет беспрестанно, впадает в ленивый ритм существования.
Оно знает, как выживать, и этого ему достаточно.
Но когда рождается новое существо, оно не наделено вообще никакими знаниями. Чтобы утвердиться в этом мире, ему приходится бороться.
И необходимо развить в себе способность запоминать то, чему научилось. Существу, не ведающему смерти, не нужна память, основные хитрости выживания оно освоило миллионы лет назад.
Новорожденному же существу приходится создавать багаж знаний за очень короткий период, иначе ему не выжить. Древние, бессмертные формы жизни были просто пассивными растительными образованиями; новые организмы, в отличие от них, оказались наделены свойством бороться и постигать.
И вот с появлением смерти начинается история.
Новые организмы не были одинаковыми, они обладали большим разнообразием и индивидуальностью.
А это значит, что они исследовали новые ареалы обитания, и поэтому сами постепенно менялись.
Начали развиваться новые виды, новые особи. Порой случайное изменение в структуре ДНК – какой-нибудь сбой при делении, дающий существу дополнительный глаз или щупальце – становилось большой удачей.
Ненормальная особь имела большие шансы приспособиться к окружающей среде, чем ее обычные сородичи.
В итоге получалось так, что они вымирали, а выродок выживал.
Слизистые комочки превратились в червей, моллюсков, рыб.
Причем некоторые из тех рыб оказались настолько совершенны, что у них не возникало надобности в дальнейших изменениях. Гигантская акула появилась на Земле около четырехсот миллионов лет назад, и тем не менее теперешние ее особи как две капли воды напоминают своих предков.
Однако жизнь устроена так странно, что иной раз наименее приспособленные организмы оказываются наиболее успешными в эволюционном плане, потому что все еще продолжают борьбу и совершенствуются, в то время как удачно сложившиеся останавливаются в своем развитии.
Примерно в то же время, как на Земле появилась гигантская акула, рыбы с мясистыми плавниками завели привычку выбрасываться из воды на берег, чтобы скрыться от врагов или, расслабясь, полежать на солнце. Они не были как следует приспособлены к жизни вне воды, когда прилив откатывался, им зачастую не удавалось дотащить тело обратно до моря.
И неразвитым их легким было невыносимо трудно перерабатывать неувлажненный воздух – многие из них задыхались и гибли, не сумев добраться до родных вод.
И тем не менее суша была настолько безопаснее океана (ведь на ней тогда не было живых существ), что эти ранние амфибии предпочитали риск истощения и смерти унылой перспективе существования среди акул.
Они-то и дали начало самым первым рептилиям.
А по истечении еще двухсот миллионов лет эволюции рептилии стали полновластными хозяевами суши.
Растительноядные ящеры были самыми крупными существами, каких только носила планета; бронтозавр нередко достигал двадцати метров в длину и весил тридцать тонн.
Плотоядные ящеры – такие, как тиранозавр – были самыми свирепыми тварями. А летающие ящеры – птеродактиль и археоптерикс – самыми подвижными.
Сто пятьдесят миллионов лет ящеры не знали себе равных. А затем стали жертвами собственного успеха.
Шестьдесят пять миллионов лет назад на Земле произошел катаклизм.
Какое-то небесное тело (вероятно, гигантский метеорит) с ужасающей силой врезалось в Землю и подняло облако пара, отчего атмосфера превратилась в теплицу.
Температурная кривая резко взмыла, и громоздкие растительноядные ящеры вымерли от переизбытка тепла.
Хищники, жившие за счет растительноядных, вымерли от голода. И вот впервые за все время шанс размножиться и утвердиться появился у теплокровных.
Гибель ящеров подготовила почву для появления человека.
Самыми древними млекопитающими предками человека были грызуны – крохотные древесные крысы с длинным хвостом и гибким позвоночником.
Около десяти миллионов лет назад большой палец у них разработал подвижность, и стало сподручнее лазать по деревьям. Крыски развились в обезьян.
Еще десяток миллионов лет, и у обезьяны наметилось сходство с человеком. А каких-то пять миллионов лет назад от человекообразной шимпанзе ответвились два новых вида, горилла и обезьяночеловек.
И вот наш предок явился на Землю. Была эпоха плиоцена – период засухи, длившийся двенадцать миллионов лет.
По мере того как растительность скудела, обезьяночеловек спустился с деревьев и принялся основное время проводить на земле в поисках съедобных кореньев и червей.
Он принялся совершенствовать самое ценное свое дарование – хождение на задних ногах.
А поскольку надежды на лес стало мало (пища там уже не была такой обильной), человеку пришлось поневоле совершенствоваться, чтобы обживать различные климатические зоны: пустыню, лесостепь, горы, тундру. А чтобы справляться с новыми неотложными задачами, он развивал свой мозг.
С той поры, как три миллиона лет назад изменился климат, ни одно животное на планете не могло сравниться с обезьяночеловеком в умении приспосабливаться.
Внезапно он открыл для себя озера, реки, обширные травянистые равнины, где паслись стада травоядных животных.
Он оказался изначально наделен способностью сотрудничать с себе подобными, теперь совместные действия стали необходимостью. Бесполезно было в одиночку тягаться с мамонтом, пещерным медведем, шерстистым носорогом, гигантским красным оленем или саблезубым тигром. А вот группа охотников, сидящая в засаде с кольями и костяными дубинами, могла сразиться, в сущности, с любым зверем.
Прямохождение дало человеку колоссальные преимущества, а необходимые для работы навыки с невероятной быстротой развивали мозг.
У первой человекообразной обезьяны, рамапитека, мозг весил около четырехсот граммов. У охотника – уже вдвое больше.
А всего через каких-нибудь два миллиона лет мозг «гомо эректуса» – человека прямоходящего – составлял килограмм. Еще полмиллиона лет, и он опять увеличился вдвое. Таким и остается размер мозга у современного человека.
«Гомо эректус» изобрел рубило и скребок для разделывания туш животных, но за миллион лет даже не попытался усовершенствовать это бесхитростное приспособление – например, снабдить его рукояткой и использовать как оружие.
Около шестидесяти тысяч лет назад разрозненные группы «гомо эректусов» перебрались из Африки и Азии в Европу и наконец развились в «гомо сапиенс» – особей, к которым, в сущности, и относится современный человек, каким мы его знаем.
Человек нового типа не знал, как разводить огонь, однако когда от случайной молнии загорался лес, он заботливо сохранял тлеющие головни, и огонь горел у него, не угасая, год за годом.
Он использовал его, чтобы поджигать приземистый подлесок и загонять животных в ловушку или вынуждать их срываться с круч в ущелье; использовался огонь и для приготовления пищи.
Наступило Великое Оледенение, и отныне огонь стал применяться для обогрева пещерных жилищ.
Вероятно, огонь и произвел необходимый «мозговый взрыв», поскольку обязывал человека жить в соответствии с себе подобными, невольно закладывая основы цивилизованных устоев.
Небольшая группа в двадцать-тридцать человек могла существовать так же бесхитростно, как стая животных. А вот группа из ста или двухсот поневоле должна была организовываться.
Появилась насущная потребность в законах и обычаях. Более того, человеку приходилось овладевать и определенным моральным кодексом.
Примитивные всхлипы и выкрики, вполне подходившие для общения раньше, развились в более утонченный язык.
Примерно сто двадцать тысяч лет назад на Земле существовали два основных подвида людей.
Одни, внешне наиболее схожие с современным человеком, обитали преимущественно в Африке.
Другие же – неандертальцы – были более примитивны и обезьяноподобны, но в умственном развитии своим сородичам особо не уступали. Эти люди изобрели лук и стрелу, так что теперь охотники могли убивать добычу на расстоянии. Их женщины украшали себя красной охрой.
Кроме того, они поклонялись солнцу и верили в загробную жизнь – по крайней мере, такой вывод напрашивается из того факта, что они изготавливали каменные диски, а мертвых хоронили по обряду, с возложением цветов.
Более восьмидесяти тысяч лет неандертальцы преобладали на Земле числом. И вдруг неожиданно исчезли.
А исчезновение их совпадает с внезапным подъемом их более «человекоподобных» собратьев, кроманьонцев.
Вероятно, наши предки выжили своих соперников-неандертальцев и сами приспособились жить на Европейском континенте.
В сравнении с неандертальцем кроманьонец был просто сверхчеловеком.
Кроманьонцы умели общаться не выкриками, а связной речью.
Их жрецы – или шаманы – прибегали к чародейству, помогая охотникам завлекать в засаду добычу тем, что рисовали изображения животных на стенах пещер и совершали таинственные ритуалы.
Они выработали даже определенную форму письменности, царапая на кости пометки, по которым можно было предсказывать фазы луны или чередование времен года.
Они научились делать лодки и пересекать реки, а какое-то время спустя отважились пускаться в путь даже через моря. Теперь, при наличии языка, люди могли друг с другом торговать, выменивая кремни, гончарные изделия на шкуры.
Они приручили животных: волка (он сделался собакой), лошадь, козу, стали разводить рогатый скот и овец.
Примерно десять тысяч лет назад появилось земледелие, люди стали выращивать пшеницу и овес.
И вот вскоре уже появились первые окруженными стенами города, человек вышел на новый этап эволюции.
– Как видишь, эти древние земледельцы стояли примерно на той же стадии развития, что и сегодняшние люди. Это пауки сдвинули стрелку человеческой эволюции на десять тысяч лет назад.
Найл открыл глаза, не зная точно, Стииг это произнес или кто-то другой, но старца нигде не было видно.
Юноша очнулся словно после глубокого сна. Комната, в которой он находился, казалась совершенно незнакомой.
Тогда до него дошло, что солнце светит через окна на другой стороне галереи: уже далеко за полдень. Он прикинул, что лежит здесь уже часов восемь.
Чувство глубокой безмятежности создавалось машиной умиротворения, снимающей напряжение, скапливающееся обычно после длительных умственных усилий.
Машина фокусировала ум на иллюзорной, сну подобной панораме, проплывающей перед внутренним взором.
Повинуясь какой-то внутренней подсказке. Найл поднялся, добравшись до пищевого процессора, съел тарелку супа и яблоко; закончив, с удивлением обратил внимание, что у плода совсем нет косточек.
Ел Найл машинально; всем своим существом он осмысливал сейчас явившееся ему, перебирая выводы.
Через полчаса, не успев еще обсохнуть после душа (с премудростями сантехники Найл справился с бездумной заученностью сомнамбулы), он возвратился к машине умиротворения и, улегшись под балдахин, вновь закрыл глаза.
Незаметно для себя Найл очутился среди смутно знакомого пейзажа.
На этот раз ощущения, что он лежит на кушетке, не было, все будто бы происходило наяву. Найл стоял на берегу моря, глядя в сторону плавных волнообразных гор на горизонте.
В отдалении обильно рос цветущий кустарник; тут и там виднелись пальмы, а из сухой земли пробивались стебли песколюба.
Где-то в полумиле возвышался окруженный стенами город: строения из обожженной глины, окружающая стена – смесь обожженной глины и камня.
Озирая цепь холмов, юноша внезапно догадался, что это за место. Это и есть то большое соленое озеро Теллам, и город стоит как раз на месте тех развалин, среди которых Найл убил смертоносца.
– Как ты считаешь, почему вокруг города стены? – спросил голос.
– Защищаться от диких зверей?
– Нет. От людей. Создавшие цивилизацию люди, помимо прочего, усвоили, что зерно и скот проще отнять у соседа, чем выращивать самому. Вот для чего стали необходимы стены. Цивилизация и преступление зародились в одно и то же время.









