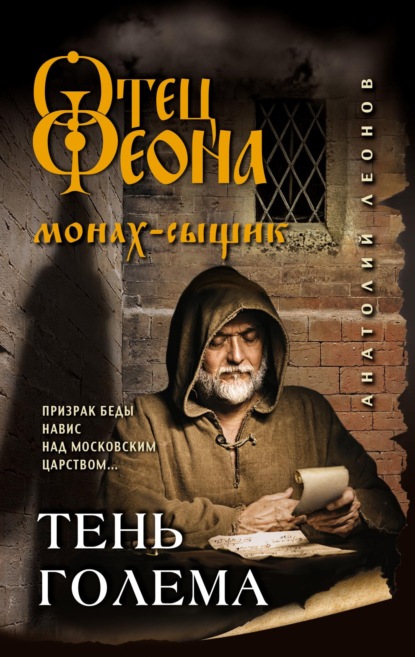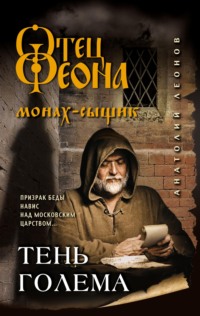Полная версия
Тайна псалтыри

Анатолий Леонов
Тайна псалтыри
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *Моему ангелу, моей жене, посвящается эта книга!
Пролог
Лета 7042 от сотворения мира[1] зима на Устюжской земле выдалась особенно суровой и долгой. В апреле месяце еще трещали лютые морозы. Снег лежал в два аршина и не сошел даже после Великого поста, а реки стояли скованные льдом до самой Троицы. Старики качали головами и пророчили беду. По весне дозорные начали сообщать о конных татарских разъездах, малыми отрядами рыскающих по округе. Сказывали, что искали они тайные тропы в лесах и броды на реках, а помогали им местные зыряне, не шибко «московских» людей жаловавшие.
Пару лет назад казанцы уже приходили к Устюгу, нежданные. На Дымкове сожгли тогда две церкви и более семидесяти крестьянских дворов. Поглумились татары весьма свирепо. Пресытившись же кровью и добычей, домой возвращались уже через Вятскую землю. Но на реке Моломе под городом Котельничем угодили в засаду русского войска, перекрывшего устье этой реки. Сеча была жестокая. Из четырех тысяч татар не уцелел никто. Всех порубали разъяренные вятчане, поминая им и прежние обиды, и нынешние преступления. Убежать удалось только луговым черемисам, бывшим с татарами, которые лесами ушли к реке Пижме, в Казанские пределы.
Два года о татарах в этих краях было не слышно, но их ждали. Понимали, что придут, и принимали меры. В считаные месяцы поднялись над городом новые стены. Мощные и неприступные. Брать такие города татары просто не умели, но оставались еще беззащитные посады и многочисленные села, отстоящие от города порой на сотни верст. Надо было решать, как спасать крестьян. А времени оставалось мало. Зимой они не напали. Ранней весной не пришли, значит, пережидали конца половодья на реках, когда большая вода бурным потоком поднималась на несколько саженей, смывая на своем пути целые деревни со всеми жильцами, скарбом и животиной. Идти в набег в такое время могли только глупцы, а татары, может, и были сумасшедшими, но уж глупцами не были точно.
Они придут летом. Как саранча, заполняя собой все пространство. Обходя стороной неприступные города, не вступая в бой с русскими воеводами, выжигая посады и деревни. Грабя, насилуя и убивая.
Еще долгих два десятка лет московское правительство не могло усмирить свою мятежную, отложившуюся «казанскую украину», так счастливо замиренную некогда великим князем Василием III[2]. Лишь полное присоединение Казанского ханства смогло изменить обстановку на южных и восточных рубежах Русского государства. Единый строй враждебных ханств был разорван; за Казанью последовала Астрахань, после чего Русское государство смогло наконец сосредоточить основные силы для борьбы с Крымским ханством. Но все это будет потом, а пока…
Глава 1
Устюжский наместник, степенный, тучный князь Михаил Данилович Щенятев[3] сидел в светлой горнице за большим обеденным столом и, важно раздувая щеки, строго смотрел на своих домочадцев. По правую руку, рядом с ним, скромно сложив ладони лодочкой, сидела его жена Мария Ивановна, урожденная княжна Горбатая-Шуйская. Женщина была чем-то расстроена или озабочена и не сильно обращала внимание на показную суровость супруга. Впрочем, и сам он, отхлебнув из серебряной чарки ставленого, сорокалетнего меда, разгладил седые усы и, крякнув от удовольствия, расслабленно откинулся на лавке, прислонившись к тесаным и ярко выкрашенным доскам стены. Морщины на его лице разгладились, и от былой суровости не осталось и следа.
– Ангел за трапезой, – пробасил он, осенив себя размашистым крестным знамением.
– Предстоит! – неровным хором отозвались домочадцы, перекрестившись, глядя на богатый иконостас в красном углу, после чего замерли с ложками в руках, ожидая разрешения главы семейства приступить к застолью. А князь вместо этого с хитрым прищуром посмотрел на дочь, сидящую чуть поодаль от него, и как бы между прочим спросил:
– Ну что, Катька, замуж-то пойдешь? Впрочем, чего тебя спрашивать? – тут же махнул он рукой и, взяв в руки резную ложку, запустил ее в простое деревянное блюдо с дымящейся ячневой кашей «глазухой», густо обложенной парным черносливом и смоквой.
– Господи, благослови! – перекрестился он еще раз и кивком головы предложил собравшимся за столом начать трапезу.
Семнадцатилетняя девушка, зардевшись от смущения, закрылась пестрым платком.
– Ой, батюшка, стыдно-то как! – запричитала она, не открывая лица.
Тринадцатилетний Петька и восьмилетний Васька, сидевшие от отца по левую руку, перевесившись через край стола, стали смеяться и дразнить сестру, бросая в нее хлебные шарики. Князь облизал ложку от каши и, не меняя выражения лица, смачно треснул каждого из расшалившихся сынов этой деревянной ложкой по вихрастым лбам. Раскатистые, словно барабанная дробь, удары вмиг вернули порядок в трапезной. Озорные отроки разом затихли, прижавшись к стене, и, испуганно моргая, терли ладонями покрасневшие лбы.
Не считая нужным что-то объяснять сыновьям, князь только погрозил им пальцем и весомо изрек:
– За столом сидите, ироды. Порядком дом стоит, непорядком – содом! – После чего повернулся к жене и, словно продолжая уже начатый ранее разговор, произнес степенно, оглаживая богатую бороду: – К Катьке нашей князь Иван Федорович Бельский[4] сватается. Пишет, готов хоть завтра под венец. Что думаешь, мать? Отдадим девку?
Мария Ивановна взмахнула пухлыми руками и воскликнула высоким, срывающимся от тревоги голосом:
– Помилуй, Михал Данилыч, кормилец родненький! Слышала я, его на южные рубежи посылают. На татар окаянных. В самое пекло! А не ровен час убьют?
Князь нахмурился, удивленно посмотрел на жену и проронил сквозь зубы:
– Пустое, мать, городишь! Иван Федорович после кончины великого князя Василия опять при дворе в расположение вошел. Ленка Глинская[5], хоть и курва литовская, прости Господи, а в людях разбирается. Князь теперь на Москве главный воевода, и в совете Верховном при малолетнем Иване чин не последний имеет, так что жених он отменный. А опасно теперь везде. У нас, че ли, тихо? Я зачем весь Устюг перерыл? Стены новые в четыре ряда мастерю? После того как в Казани крымский царевич Сафа-Гирей[6] сел, покоя нигде нет. От Владимира до Перми города заново строим. Оборону крепим.
Княгиня пожала плечами и, не глядя на мужа, проворчала, упрямо поджав губы:
– Тебе, отец, конечно, виднее, но Бельские род ненадежный, случись чего, наша Катька ни за что ни про что под раздачу попадет…
Михаил Данилович озадаченно почесал бороду и ответил, с осуждением глядя на жену:
– Вы, Шуйские, Бельских всегда недолюбливали…
– Конечно, зато вы, Гедиминовичи, своих завсегда примечали и на выручку спешили! – парировала та, может быть, даже слишком резко, чтобы казаться простым проявлением материнского беспокойства.
Почувствовав это, князь обиженно поджал губы и ответил:
– Ну ведь нелепость говоришь, Маша! Мы с тобой двадцать лет в супружестве, троих детей вырастили. Сильно нам мешало?
Княгиня бросила быстрый взгляд на испуганную дочь, насупила брови и в сердцах махнула рукой:
– Ты, Михал Данилович, себя с родней-то не путай. У нас с тобой по любви все сладилось. Не забыл, как под моей светелкой ночами околачивался, а потом у отца вымаливал? Катька, отроковица еще, жениха в глаза не видела. А женишку пятьдесят годков стукнуло!
– Я все помню, – произнес князь, в сердцах хлопнув ладонью по столу. – Только негоже бабе мужу при детях перечить. Не вводи меня в грех, Маша. Не согласна – молчи. От Катьки много не требуется. Всякая невеста для своего жениха родится. Сперва стерпится, потом слюбится. А князь Иван – хороший человек. Зря не обидит…
Прислуживавшая за обедом ключница, маленькая, сухая, как вяленая вобла, бабка лет девяноста от роду, сопровождая слугу, несущего большую, дымящуюся кастрюлю с юрмой[7], после слов князя даже крякнула с досады.
– Ты, Мишка, чего расхорохорился? – закричала она, подступая к князю и тряся маленькими кулачками, покрытыми старческими пятнами. – Не коня продаешь, а дочку замуж выдаешь. Тут обдумать все требуется. Чай, не на войне!
Увидев перед собой неожиданного противника, князь на удивление спокойно и миролюбиво пробасил:
– Ты, баба Дуня, не лезь, тебя это не касается. Сами разберемся…
– Как это не касается? – всплеснула руками бойкая старушка. – Ты, Мишаня, чего говоришь-то? Я у князя Данилы Васильевича[8] покойного, царствие ему небесное, почитай, полвека служила. Тебя чадушком голожопым на руках носила, а потом детей твоих пестовала, так что окстись, голос свой я здесь по праву имею…
Услышав слова старухи, Петька с Васькой, давясь от смеха, захрюкали в рукава кафтанов, но, увидев строгий взгляд отца и деревянную ложку в его по-крестьянски крепкой руке, они тут же сменили выражения лиц с безудержного веселья на смирение и полное принятие неизбежного.
Баба Дуня меж тем подошла к Катьке и, погладив ее по голове, добавила, глядя на князя старческими слезящимися глазами:
– Ты не спеши, Миша. Тут дело важное. Не ошибиться бы!
Князь Михаил устало махнул рукой, бросил на стол ложку, встал из-за стола и подошел к открытому настежь окну.
– Тут думать нечего. Все уже решено, – твердо произнес он. – Как сказал, так и будет, и ты, баба Дуня, мне воду не мути, а то в деревню отправлю, будешь кошкам о моем голозадом детстве рассказывать.
Упрямая старуха попыталась что-то еще возразить, но князь остановил ее жестом, заметив, как в ворота, гарцуя на разгоряченном скакуне, влетел взволнованный сын боярский Данила Загрязский, отвечавший в городе за строительство новых укреплений. Выпрыгнув из седла, он стремглав пронесся по двору и, стуча сапожищами по деревянным ступеням крыльца, вбежал в дом.
– Чего-то, Данила, примчался сам не свой? Видать, случилось чего? – произнес встревоженный князь, идя навстречу гостю.
Молодой человек влетел в горницу, едва не выбив лбом низкую притолоку двери. Округлив глаза от боли и почесывая ушибленный лоб, он поспешно перекрестился на иконостас, пробубнив скороговоркой:
– Господи, помилуй и прости мя, грешного! – После чего, отвесив низкий поклон князю и княгине, произнес взволнованно: – Мир дому сему! С праздничком вас, с Николой летним![9]
– С миром принимаем! Спаси Христос, Данилка! – ответила княгиня Мария, заботливо прикладывая к шишке на лбу парня свинцовую стопку, взятую со стола. – Голова-то цела?
– Да цела, чего ей будет-то? – отмахнулся Загрязский и, повернувшись к застывшей за столом как соляной столб Катьке, поклонился ей учтиво и как-то по-особому любезно: – Доброго здоровья, Катерина Михайловна! Давненько не виделись!
– Вчера только, – нахмурившись, проворчал князь Щенятев, обратив внимание, как вспыхнули щеки и загорелись глаза дочери при виде статного широкоплечего красавца Загрязского.
– Что? – рассеянно переспросил Данила, отсутствующим взором поглядев на князя.
– Я говорю, вчера только расстались, – повторил Щенятев, возвращая своего помощника в настоящее, – ты лучше скажи, пристав, зачем с дверью бодался? Чего у тебя случилось?
Встрепенувшись, Загрязский вдруг вспомнил цель своего прихода и, освободив голову от пустых мечтаний, взволнованно доложил:
– Беда, Михал Данилыч! Артель мастеров, которая на Гледенской горе в монастыре работала, наткнулась на что-то. Копнули поглубже, обвал случился. Пятеро провалились в яму сажени[10] на три. Двоих насмерть завалило. Остальные вроде живы.
– Что значит – вроде, – возмутился Щенятев, поспешно набрасывая себе на плечи малиновую однорядку, подбитую куньим мехом, – а точно знать кто будет?
– Так спешил ведь, – оправдывался Данила, следуя за Щенятевым по пятам.
– Спешил, – передразнил помощника князь, двигаясь к двери, – ладно, на месте разберемся, поехали…
– Батюшка, – закричал тринадцатилетний Петька, бросаясь из-за стола наперерез отцу, – возьми меня с собой!
– Зачем? – спросил отец, удивленно глядя на Петьку.
– Я уже взрослый!
Князь Михаил подумал и согласно кивнул головой.
– Ладно, поехали. В конце концов, я в твоем возрасте с отцом у литвин Вязьму брал и на шведа под Выборг ходил.
– А я? А меня? – заныл младший Васька, порываясь выбраться из-за стола.
– А тебе рано! – ответила мать, усаживая его обратно.
Петька, поспешно на ходу надевая охабень, не удержался и, повернувшись к младшему брату, показал ему язык. От обиды Васька завыл пуще прежнего, размазывая брызнувшие из глаз слезы по упитанному, по-детски румяному лицу, но старший брат уже скрылся за дверью, сбегая вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Внизу их ждали оседланные лошади и команда городских казаков.
Глава 2
Лет за сто допрежь того стоял в полутора верстах от Устюга на невысокой, плоской, как блин, горе, у слияния реки Юг с речкой Шарденьгой город Гледен, основанный здесь в незапамятные времена великим князем владимирским Всеволодом Большое Гнездо[11]. История города оказалась короткой и печальной. Река Сухона, долгое время подмывавшая и затоплявшая правый берег, на котором располагался Гледен, от весны к весне приносила его жителям немало бедствий. Бесконечные набеги чуди[12], новгородцев и вятчан делали жизнь горожан невыносимой. Наконец долгая междоусобная война между московскими и звенигородскими князьями окончательно разорила древний город, и он прекратил свое существование. Часть жителей перебралась на Черный Прилук, в более удачливый и счастливый Устюг. Другая часть чуть поодаль брошенного города построила село Морозовицу. На самой же горе остался стоять только Троице-Гледенский мужской монастырь с полусотней насельников, посвятивших себя божьему служению.
С опаской перебравшись на другой берег Сухоны у Коромысловской Запани по рыхлому, с водяными проплешинами льду, небольшой конный отряд князя Михаила вдоль луговой поймы быстро добрался до монастыря. Поднявшись на горку, они увидели большой проем в стене у Святых врат[13], около которого суетились люди. К тому времени артельщики и монахи уже разобрали часть завалов, образовавшихся после обрушения сторожевой башни и части ограды монастыря, извлекли из ямы тела погибших и отнесли в лазарет пострадавших. Игумен монастыря, отец Никандр, стоял, опираясь на посох, и печально смотрел на огромную дыру в земле, заваленную битым кирпичом и штукатуркой, под которыми скорее угадывались, нежели виделись могучие каменные своды загадочного подземелья.
Получив благословление, поцеловав руку и наметку клобука, свисавшую с правого плеча игумена, князь Щенятев с опаской приблизился к провалу, все еще осыпающемуся вниз большими кусками извести и штукатурки. Посмотрел в яму и спросил, не поворачивая головы:
– Как думаешь, отче, что это?
– Не думаю, княже, а знаю, – ответил тот глухим скрипучим голосом, отворачиваясь и уходя прочь от завала. – Опасно тут, – пояснил он Щенятеву, – надо бы людей в охранение поставить. Не ровен час дальше осыплется.
– Так что, осыплется, отец Никандр?
– Про подземелья Гледена слышал?
– А кто не слышал? Думал, байки народ мелет…
– Не байки, как видишь. Тут вся гора тайными ходами изрыта. Только ходы те забыты давно. Сам про них знал, да вижу впервой. Выставь охрану, Михаил Данилович, от греха подальше. Всем спокойней будет.
Князь Щенятев согласно кивнул головой и поманил рукой стоящего рядом казачьего десятника, но прежде чем дать распоряжение, обернулся и еще раз бросил взгляд на провал. Непоседливый Петька стоял на деревянной балке, висящей над пропастью, и беспечно раскачивался на ней, с любопытством глядя вниз.
– А ну, поганец, пошел вон оттуда! – заорал не на шутку испуганный князь, грозя сыну увесистым кулаком.
– Да чего такого, тятенька? Тут же безопасно. Балка плитой придавлена. Пятерым не сдвинуть, – ответил удивленный Петька, продолжая раскачиваться на старом гнилом брусе.
– Я тебе вожжами по дристалищу сейчас объясню, где тут безопасно. А ну живо слезай оттуда! – рассердился отец.
– Изволь батюшка, уже иду… – поспешил успокоить отца бесстрашный мальчишка, разворачиваясь, чтобы идти обратно.
В этот момент балка, казалось, крепко зажатая между двумя кирпичными плитами, неожиданно просела и развернулась в сторону. Не удержавшись на бревне, Петька сорвался вниз и с диким криком полетел в провал. Следом одна из плит с грохотом сошла со своего места и, соскользнув по стене провала, наглухо закупорила щель, подняв при этом большое облако из пыли, штукатурки и мелкого щебня. Пыль, стелясь, как туман, клубами, распространялась по всем закоулкам монастырского двора, медленно оседая на изрытую землю и развороченные стены. Наступившую вслед за новым обвалом гнетущую тишину взорвал отчаянный вопль князя Щенятева:
– Петька-а-а, паскудник… убью!
Петька открыл глаза и не увидел ничего. Кромешный мрак. От наполнявшей воздух пыли было тяжело дышать. Страшно саднил лоб и болело правое колено. Приподнявшись на локтях, парень вытащил из-под себя кусок битого кирпича, больно врезавшийся в спину, прокашлялся и закричал, задрав голову вверх:
– Эй, кто-нибудь, я здесь! На помощь! Спасите!
Прислушался. Тишина. Только давящий звон в ушах и негромкое шуршание со всех сторон, от которого у парня все похолодело внутри. От страха хотелось плакать, бежать сломя голову прочь из этого места. Но бежать было некуда. Оставалось надеяться на тех, кто остался наверху.
– Батюшка! Данила! Вытащите меня отсюда!
Словно вняв его мольбам, сверху послышались приглушенные толстыми стенами голоса, раздался шум падающей осыпи, и в лицо ударил яркий солнечный лучик.
– Сынок, это ты? – послышался сверху взволнованный голос князя.
– Я, батюшка!
– Цел?
– Цел, только ногу крепко ушиб. Кажется, кровь течет.
– Сиди, не двигайся, – приказал отец. – Мы тебя вытащим. Ты главное не шевелись, а то не ровен час еще чего обвалится. Тут все давно истлело в труху, одно гнилье кругом. Подожди немного, мы скоро.
Видимо, отец отошел. Голос его стал глуше. Слышно было, как он распекает и подгоняет работников, расчищавших завал. Успокоенный, немного пришедший в себя Петька поудобней устроился на куче битого кирпича и достал из кожаной калиты, висящей на поясе, голландский шпанхан[14], обменянный по случаю на старый татарский саадак[15] у Афоньки, сына воеводы Терентия Забелы. У мушкетного замка был обломан курковый винт, но этот недостаток не мешал ему исправно работать. Ударяя кремнем об огниво, Петька высек яркий сноп искр, разлетевшихся, как потешные огни, в ночном небе, на мгновенье осветив мрачные стены подземного каземата. Сколь ни скоротечна была вспышка света, но мальчик успел заметить, что сидел он на небольшой куче каменного крошева и строительного мусора, осыпавшегося то ли со стены, то ли с большой колонны, подпиравшей свод подземелья. Еще и еще раз высекая искры из кремневого замка, он смог рассмотреть каменную нишу и человеческий скелет, прикованный к стене ржавой цепью. Покрытый пылью череп, казалось, внимательно следил за мальчиком, пугая его бездонной глубиной своих пустых глазниц. Суеверный и впечатлительный, как все дети, Петька уронил шпанхан на землю, зажмурил глаза и зачастил громкой скороговоркой, судорожно глотая слова и осеняя себя крестным знаменем:
Матушка, брошенная изба,Нет у тебя хозяев,Но есть у тебя четыре угла.На тех углах есть стена без единого окна.Как нет окна на стене,Так чтобы не было и проклятья на мне.Ключ, замок, язык. Аминь.Аминь. Аминь.Сверху с легким шуршанием посыпалась порохня[16] из мелкой гальки, песка и извести. Лучик света расширился до размеров церковного пилона[17], и в образовавшуюся дыру в потолке, через которую уже можно было наблюдать голубое небо, просунулась патлатая голова Данилы Загрязского.
– Петька, ты чего надрываешься, как диакон на амвоне?[18] Чего там у тебя?
– Тут покойник в оковах! – неловко переступая с ноги на ногу, ответил Петька, указывая на скелет в нише стены.
– Старый?
– Кто?
– Покойник твой!
– Чего он мой? Старый, конечно. Костяк один. Даже рухляди не осталось.
– Ну и чего тогда вопишь? Не укусит, чай? Мертвяком хоть забор подпирай, все нипочем.
Пристав исчез в проеме, но через мгновение опять появился и ободряюще произнес:
– Потерпи малость. Мы сейчас плиту сковырнем и проход очистим.
– Ладно, – махнул рукой Петька и бросил опасливый взгляд на нишу в стене. Свет из открытого проема рассеял кромешный мрак подземелья. Во мгле почти слитый с окружающим местом череп уже не казался таким зловещим, каким виделся еще совсем недавно. Скорее он разжигал любопытство. Беспокойный Петькин разум уже искал ответа на вопрос, кем мог быть этот несчастный, что умер здесь столь ужасной смертью, не оставив после себя ничего, кроме груды полуистлевших костей? Что совершил, в чем провинился? Какую тайну унес с собой?
Присмиревший от мыслей о бренности бытия юный князь в ожидании вызволения из нечаянного плена встал на колени и руками пошарил вокруг в поисках упавшего с осыпи шпанхана. Он нащупал что-то гладкое и прохладное, но уже в следующий момент находка с угрожающим шипением выскользнула из руки, в то же мгновение с ближайшей колонны с глухим стуком на плечо упало плотное и гибкое, как плеть, тело. Задев правую щеку, оно, шурша, соскользнуло на землю. Охваченный безудержным ужасом Петька подскочил на месте и истошно заголосил, задрав голову к проему в потолке.
– Данилаааа, вытащи меня скорей!
В проеме опять появилась голова пристава.
– Ну чего опять? – спросил он недовольно. – Усопший куролесит?
– Тут змеи! Много змей! – дрожащим голосом прошептал мальчишка, не смея даже пошевелиться.
Загрязский крикнул что-то своим работникам и через мгновение просунул в дыру горящий факел.
– А ну, Петя, посторонись! – крикнул он парню и бросил факел вниз. Следом бросил и второй чуть в сторону от первого.
Свет впервые за сто лет осветил мрачное подземелье, представлявшее собой большой зал с низким сводчатым потолком, подпертым кряжистыми колоннами двух саженей[19] в обхват. Из зала во все стороны вели многочисленные коридоры, некоторые из них были открыты, другие закрыты толстыми, давно сгнившими и покосившимися дверями. А некоторые были просто наглухо заложены кирпичом и природным камнем. Но главное, что увидел Петька в подземелье, были не мрачные стены из красно-серого кирпича, не грязные заваленные мусором полы, не колонны, поросшие толстым мхом, а обитатели этого угрюмого места. Змеи. Сотни гадюк устилали собой пол, выбоины стен и трещины сводов. Они собирались в огромные подвижные клубки в нишах и расселинах, свисали с гнилых поперечин покосившихся дверей, ползали по капителям колонн. Копошились у подножья осыпи, на которой стоял он, едва живой от страха. Добрый десяток ползучих гадов сновал и среди останков человека в нише.
– Мать честная! – воскликнул Данила. – Господи, помоги! Видать, у змей здесь зимовье было, а обвал их потревожил. Скверное дело.
– А мне что делать, Данила? – ныл Петька, утирая текущие слезы грязным рукавом порванного в клочья охабня. – Я боюсь!
– Стой смирно, дружочек, ежели жизнь дорога. Даже не шевелись. Они сейчас злые. Мы тебя вытащим, главное, не сходи с места.
Загрязский исчез. Слышно было, как он орал на мастеровых, заставляя их пошевеливаться, а те отвечали нестройными голосами. На пол сыпались штукатурка и кирпичи. У проема как живой скрипел и шевелился потолок, но пока не поддавался усилиям рабочих. Факелы погасли. Петька стоял в темноте, как истукан, врытый в землю. Зубы его выбивали барабанную дробь. Судорожно сжатые кулаки онемели. Он читал Отче наш и Символ веры[20]. Ему казалось, что змеи ползут по ногам, лезут на плечи и лижут щеки своими раздвоенными язычками. Наконец, когда, казалось, сил уже не осталось вовсе, раздался страшный скрежет и треск. Огромная плита, развернувшись боком, рухнула вниз с высоты трех саженей, осыпав мальчишку градом мелкой щебенки и битого кирпича. В подземелье проник яркий дневной свет, от которого Петька, довольно долго находившийся в темноте, невольно зажмурился. Не успела улечься пыль от рухнувшей плиты, как вниз полетели горящие факелы и кульки тлеющей материи, а следом полезли мужики, вооруженные палками, косами и деревянными киянками. Они убивали зазевавшихся змей. Впрочем, большинство их успело расползтись по укромным местам сразу, как только рухнула крыша.
Данила Загрязский, давя гадюк каблуками сапог, первым спустился в подземелье и, довольно улыбаясь, шел к Петьке, раскрыв ему свои объятия. Петька облегченно выдохнул, утер сопливый нос рукавом и, по-детски всхлипывая, уткнулся в могучую грудь пристава.
– Ну, дружочек, и натворил ты дел! – произнес Данила, гладя своей огромной ручищей по голове мальчика. – Думаю так, что быть тебе сегодня драным! Иди, отец наверху ждет. Повинись перед ним.