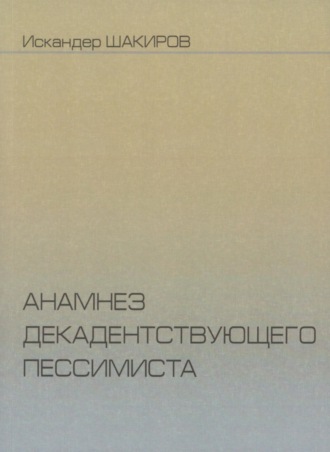
Полная версия
Анамнез декадентствующего пессимиста
Развитой постмодернизм – это такой этап в эволюции постмодерна, когда он перестает опираться на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на своей собственной основе. Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Илиада, Одиссея – все это забыто. Наступила эпоха цитат из телепередач и фильмов, то есть предметом цитирования становятся прежние заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной анонимности.
И тут случилось страшное. Я потерял источник. Цитата есть – вон она, срисованная через команду «Копировать», а откуда – не помню. Источник молчит. Это что-то. Не хочет описанным быть. Потому и молчит. Источник, который обычно столь щедр на цитаты. Но только не спрашивай, спрашивай, как я живу. Не пойдёт. Удалить? Ок.
Восхитительно неудобочитаемые, не имеющие ни начала, ни конца, они могли бы с успехом на любой странице закончиться или растянуться на десятки тысяч страниц. В связи с этим мне приходит в голову вопрос: можно ли до бесконечности повторять один и тот же эксперимент? Написать один роман без предмета повествования – это как раз неплохо, но зачем же писать десять, двадцать таких романов? Придя к выводу о необходимости вакуума, зачем этот вакуум приумножать и делать вид, будто он приятен? Имплицитный замысел произведения такого рода противопоставляет износу бытия неиссякаемую реальность небытия. Несостоятельный с точки зрения логики, этот замысел верен тем не менее на уровне эмоций. (Говорить о небытии иначе как в эмоциональном плане означает пустую трату времени.) Он подразумевает поиски без внешних ориентиров, эксперимент внутри неисчерпаемого вакуума, внутри некой пустоты, воспринимаемой и мыслимой через ощущение, а также подразумевает парадоксально неподвижную, застывшую диалектику, динамику монотонности и безликости. Движение по кругу, не правда ли? Сладострастие незначимости – самый тупиковый из тупиков. Использовать ощущение тоски не для того, чтобы превращать отсутствие в тайну, а для того, чтобы превращать тайну в отсутствие. Никчемная тайна, подвешенная к самой себе, не имеющая фона и неспособная увлечь того, кто воспринимает ее, дальше откровений нонсенса.
«Фрагмент – у меня в крови, – обронил он однажды. Я обречен осуществиться лишь наполовину. И эта усечённость – во всём: в манере жить, в манере писать». Человек отрывков. Человек рубежа, слома по ненасытной страсти в поисках последних пределов любого переживания и мысли, он настолько же избрал фрагментарность словесного выражения по собственной воле, насколько и был на нее обречен. Переворачивая знаменитую формулу, я бы сказал, что фрагмент – это такая разновидность прозы, чей центр нигде, а окружность везде. Форма «центробежного» высказывания, фрагмент существует парадоксальной напряженностью без сосредоточенности, как бы постоянным усилием рассеяния, тяги от центра ко все новому и новому краю. На первый – и ошибочный – взгляд, многократно повторяясь, автор, напротив, опять и опять опровергает себя, до бесконечности множит микроскопические различия, в которых здесь – вся соль. «Судорожное», «конвульсивное» письмо – уникальное соединение порыва и оцепенелости – движется по-змеиному неуловимо и, при всей своей мозаичности, как-то странно живет. Продвигаясь от вокабулы к вокабуле, от пробела к пробелу мельчайшими мышечными сокращениями, словомысль гипнотизирует, приковывает читателя: она всегда находится как раз на той точке, где остановился сейчас наш завороженный взгляд. Фрагментам пора, наконец, выстроиться в каталог.
Отрывистый стиль для него – «принцип… познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена у него сейчас же терпеть поражение от другой, которую сама втайне породила».
События предстают так, как если бы они были цитатами, взятыми из разных источников и собранными вместе. Прием фрагментации усиливает элемент присутствия. Может, это то, чего добивался А. Тарковский, когда говорил актерам массовки, что они должны всегда играть так, как если бы были главными героями, для того, чтобы пространство, являясь вместилищем действий и событий, превращалось в нечто ментальное, во внутреннее пространство разума и мысли.
Бог создал меня простодушным, глуповатым и наивным. Непосредственным впечатлениям я всегда поддавался больше, чем внушению, исходящему от сущности вещей. От этого проистекает поверхностность в моих взглядах, смешная податливость и обескураживающая способность самообманываться. Спешу признаться в этом, дабы не уличил меня проницательный читатель, в руки которого может попасть это сочинение. Так и представляю себе его, возмущенного, с гневом швыряющего книжку в угол и восклицающего: "Да автор попросту дурак!" Едва лишь в сознании возникнет этакая картина, как дрожь пробирает меня до самых пяток. Нет, куда лучше быть искренним и говорить без обиняков.
Мы не доверяем прохвостам, мошенникам и балагурам, а ведь вовсе не они несут ответственность за великие судороги истории. Ни во что не веря, они, однако, не лезут к вам в душу и не пытаются нарушить ход ваших тайных мыслей. Они просто оставляют вас наедине с вашей беспечностью, вашей никчемностью или с вашим отчаянием. Однако именно им обязано человечество редкими мгновениями процветания: они-то и спасают народы, которых истязают фанатики и губят "идеалисты".
И как бы мы смогли вытерпеть законы, кодексы и параграфы сердца, в угоду инерции и благопристойности, наложенные на хитроумные и суетные пороки, если бы не эти жизнерадостные существа, чья утонченность ставит их одновременно и на вершину общества, и вне его?
Легкомыслие дается нелегко. Это привилегия и особое искусство; это поиски поверхностного теми, кто, поняв, что нельзя быть уверенным ни в чем, возненавидел всякую уверенность; это бегство подальше от бездн, которые, будучи, естественно, бездонными, не могут никуда привести. Остается, правда, еще внешняя оболочка – так почему бы не возвысить ее до уровня стиля?
Глава 9. Мир людей
Вначале кажется, что почти не о чем говорить… Всякое сказанное слово требует какого-то продолжения, ибо только оглянувшись и можно перевести дыхание. Наверное, лучше всего это происходит и проходит в чтении – мы понимаем, что весь веер попыток указать на такое слово складывается в сундуки, равно как перья, птичьи скелеты, бабушкины склянки, знамёна судьбы – нас не удалось обмануть, и то сказать! Куда уж.
Но, "Боже мой", почему так грустно, когда смотришь вслед удаляющейся в холодный туман, на холмы, по глиняным дорогам некой фигурке. Как долго её будет удерживать зрение? Вам этого не скажет – никто. Это "никто" – конечно она. Она в ответ молчит, ничего не хочет сказать, такой у них закон. (Ночью и роща молчит слушать не хочет листья сложила свои слушать не хочет.) Об этом вообще можно только молчать. А если говорить, то получается какая-то чушь. Как только ты пытаешься его перехитрить, "появится такая вещь, что если кто вздумает покрыть её, будет покрыт ею". Нельзя никому передать и которым невозможно ни с кем обменяться. То, о чём не следует говорить, говорит само за себя. "Всё моё знание – это завтрак, завтрак простуженной англичанки". Я слов не говорю. Я не обращаю внимания на них, вбирая на слух уже и не сами слова, а их меланхолию: я знаю: они – вывеска, и прочесть её трудно. Ибо слова подчиняются лишь тогда, когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь, когда не нужно. Итак, каждый приступ есть новое начинание, набег на невыразимость с негодными средствами, которые иссякают… Что это за слово, которое знают все? Не верю никаким словам. Не в слове – дело, а почему слово говорится. Слово "лезвие" успокаивает, а от слова "кошка" становится тепло. Жизнь не дает повода для фиксации. Молчание – будущее дней.
Женщина, повисшая на моей руке, была беременна, через шесть или семь лет существо, которое она носила в себе, сумеет прочитать небесные письмена, и он, или она, или оно, узнает, что это была сигарета и позже начнет курить, возможно, по пачке в день. В чреве на каждом пальце вырастает по ногтю, на руках и ногах, и на этом можно застрять, на ноготке пальца ноги, самом крошечном ноготке, который можно себе вообразить, и можно сломать голову, пытаясь это постичь. На одном конце перекладины – книги, написанные человеком, заключающие в себе такую дребедень мудрости и чепухи, истины и лжи, что, проживи хоть столько, сколько жил Мафусаил, – не расхлебать похлебки; на другом конце перекладины – такие вещи, как ногти на ногах, волосы, зубы, кровь, яичники, если хотите, неисчислимые, написанные иными чернилами, иным почерком, непонятным, неразборчивым почерком.
Рассказ, не знающий себе равных по страстности выраженной в нём тоски, написанный как бы из некоего далека и высока, почти сновидения; ибо при всей кажущейся конкретности деталей, все здесь в сущности абстрактно, условно.
Эту позицию невозможно назвать ни стоической – ибо она продиктована, прежде всего, соображениями эстетико-лингвистического порядка, ни экзистенциалистской – потому что именно отрицание действительности и составляет её содержание. Рукопись "с душком", сколько здесь тёмных змеящихся смыслов…
Он прочёл эти строки и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Когда-нибудь и этот текст закончится. Последняя строка всегда права.
Так последний миг может всё изменить! Тем хуже для нетерпеливых людей, которые не хотят слушать до последней минуты! Ибо разгадка тайны, может быть, содержится в последнем слове… Ни в коем случае не уходите до конца!
«По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берёт верх над всякими соображениями, и он даёт себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нём сумасшедшего и человека. Трудно передать его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решётках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще не допетых песен». (Чехов А.П. Палата №6)
…И дальше в том же духе. Я и половины из того, что он говорил, записать не смог бы. Он вещал бессвязно, как безумный, брызгал слюной через слово. Мне кажется, болезнь уже разъедала его мозг, ведь годы спустя он так и умер в бреду.
Уже само наличие времени, то есть того неотвратимого, что превращает людей в старых, больных и мертвых, говорит о человеческом бессилии. Если бы человеческая история воплощалась не во времени, а в какой-то иной субстанции, тогда еще можно было бы вообразить, будто она действительно творится людьми. Но поскольку именно время является измерением истории, а именно это измерение делает человека беспомощным, то роль частной жизни и роль сильной воли сводится к коротким репликам на авансцене. Сама же пьеса играется без нашего на то разрешения; и занавес поднимаем не мы, и, что хуже, не мы его опустим.
…На какой-то стадии приходит сознание несерьезности всего, что делал, чем жил, и это чувство способно довести до отчаянья, пока не вспомнишь, что и вся мировая история не очень-то серьезна. Историки листают сто раз перелистанные страницы, чтобы уточнить годы жизни какого-нибудь султана или пересмотреть роль монетарной системы в упадке Венеции. В истории столько всего произошло, что найдутся факты для подкрепления любой теории. Мировая история, в сущности, есть шум вокруг последних новостей. Мир – модель Ноева Ковчега: горстка людей и бездна скота. Этот взгляд на историю основывается на следующем принципе: история человечества представляет собой регресс, нисхождение, умаление бытия, его выветривание, что влечет ухудшение духовного качества жизни, нарастание катаклизмов, отступление от священных норм, впадение в беспорядок и хаос. Беспрерывно убыстряющийся прогресс должен быть оплачен не иначе как постоянно усиливающимся человеческим peгpeссом, оскудением гyмaннoгo начала. Умные приспосабливаются к миру, дураки стараются приспособить мир к себе, поэтому изменяют мир и делают историю дураки.
Невпопад рекламы – значок короткой суеты. Монотонный фон, гудит как пароходик. Прислушайся: ты слышишь гул толпы, тяжёлых дум, обычных новостей? Шумовой фон, вероятно, создает иллюзию жизни, полной смысла, событий. Или это способ заговорить пустоту, гложущую изнутри, как болезнь, попавшего в беду человека?
Читатель хочет развлечься. Новостной сайт – это замена его древнему, спрятавшемуся в глубине мозга желанию услышать новости племени. В городе, где жители разобщены, а племени как такового нет, сказителями служат телевизор и сайты. Они создают иллюзию того, что нечто важное происходит рядом и касается непосредственно тебя. Чаще всего – не касается.
Туземный народ задаёт здесь тоны, весёлые праздные недоумки, стадо, безмозглое быдло, сучье племя, рядясь в кафтаны, кажный вечер по улицам прёт. Их жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Нынче, кажется, никому ничего и вякнуть нельзя. Подлые у нынешнего человека инстинкты, скажу я вам.
Страбон и Геродот упоминают о «фтирофагах»: «многочисленное кочевое племя… они бреют свои бороды и едят вшей, когда какая–нибудь из них будет изловлена…». Почитание воды и рек только благоприятствовало данной традиции. Как можно интерпретировать фтироедство? Напомню, что насекомые в мифологии имели различное семантическое наполнение. Например, божья коровка (Небо), бабочка (вместилище души), кузнечик (Божья лошадка), паук (архитектор Вселенной). Вши также соотносятся и с подземным миром. Для архаического самосознания высшим престижем обладает то, что сакрально, а сакрально то, что космологично. По сообщениям Ибн–Фадлана «каждый из них вырезает кусок дерева, величиной с фалл и вешает его на себя».
Цивилизация следует за культурой, пишет Шпенглер «как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за деревней и задушевным детством».
Я открыл день. Очень приятны мне эти задумчивые молчаливые начала дней. Чем дни прохладней, тем они короче. Вот о чём я мечтаю этим унылым днём. Я выключил свет, на этом кончился день, загородивший мне всё… Жизнь – это много дней, извилистых, прихотливых. Этот день кончился, как делали все дни.
(Допустим: "Парк. Сентябрь."). Он говорит: "Я завтра буду в "Собаке". Ты со мной?" Пока он ждёт ответа, она смотрит на стекленеющую тень свою и чётко произносит: "Сегодня был ненужный день."
Жизнь развёртывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Я по-прежнему сижу на вёслах этой проклятой лодки, то есть, пребываю и тружусь на бессмысленной каторге повседневности. Но с годами все осторожнее переливать из пустого в порожнее. Дни по-прежнему вьют из времени верёвки, заставляя добывать хлеб в поте лица и 52 воскресенья в году.
Ни клочка облачка на небе, где меня с полудня наняли сторожить эту нежить, нежить эту жить, дребезжать и брезжить и – не тужить. Софья, не плачь, я видела в окно: твой двойник по небу плыл.
С ума тебя сводит телескопическая предсказуемость будущего. Ежедневность не сразу затягивает петлю. Можно сказать, нас эта дама и не прогнула вовсе. Тает в свете обычного дня автоматизм повторения. В этой части мир есть совокупность фактов. Это – начало большого сырого мира. Иногда это – кусочек дырчатого счастья, основа мечтаний. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Отвечает: никакое не сожаление это, просто бережное, прямо как в школе, фактов бесспорных расположенье. Предлог, чтобы не заниматься тем, чем стоит заниматься в этой жизни. Мир делится на человека, а умножается на остальное. Понимаете – квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вероятно, и рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на воздух, то у них не остается времени, чтобы воспользоваться сравнением воздуха с водой. Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Это – ряд наблюдений.
Вот и всё, на что годен человек, – на то, чтобы скорчить гримасу, на которую у него уходит вся жизнь, а подчас и жизни не хватает, чтобы довести её до конца: эта гримаса так неимоверно сложна и требует столько сил, что состроить её можно, лишь отдав этому всю свою подлинную душу без остатка.
Прямая угроза, исходящая от обнажённой стали, всегда казалась мне ничтожной по сравнению с потаённым ужасом повседневности. Именно от неё люди издавна прятали в книгах то лучшее, что им удавалось добыть в скудных каменоломнях своих душ; собирали для своего пропитания всё великое и достопримечательное, что когда-либо было и ещё есть на свете.
Дорогой коммендаторе, прошу вас садиться, мой друг много рассказывал мне о Вас. Достойнейший пример, вся жизнь без колебаний отдана государственной службе. И затаенная поэтическая жилка, я угадал, не правда ли?
Но тщетно весельем морочит толпа, свободу отдашь за крупицу тепла, за горький глоток состраданья, за чёрный сухарь пониманья. Отдаёшь свои волосы парикмахеру, отдаёшь глаза – постыдным зрелищам, нос – скверным запахам, рот – дрянной пище, – отдаешь своё детство попечительству идиотов, лучшие часы отрочества – грязной казарме школы, отдаёшь юность – спорам с прорвой микроцефалов, и любовь – благородную любовь – женщине, мечтающей о следующем, отдаёшь свою зрелость службе – этому серому чудовищу с тусклыми глазами и механически закрывающимся ртом – и гаснут глаза твои, седеют волосы, изощрённый нос принимает форму дремлющего извозчика, грубеет рот, и душу (печальницу-душу) погружаешь в омут будней…
От пролетающих дней и недель свист в ушах. Вращение мира изящно, оно сопровождается лёгким гулом. Вереница церемоний, коллекции фактов, смешные маленькие напасти. Я живу в бесчисленных образах, вереницы сезонов, и лет, образах жизни, в причудливом кружеве очертаний, и красок, и жестов, и слов, в красоте неожиданностей, и в привычном уродстве, в свежей ясности мыслей и желаний, я живу в нищете и тоске, им я не поддаюсь, невзирая на, я живу в приглушённой реке, прозрачной и хмурой реке зрачков, в муравейнике одинокого человека, в душном лесу и в братьях своих обретённых, одновременно живу в голоде и в изобилье, в сумятице дней и чёрном порядке ночей, отвечаю ли я за?.. И даже плюшевые игрушки мне не милы.
Все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем, облагораживая бытовой абсурд, придать ей что-то шумно-праздничное. В силу рождения, местопребывания, воспитания, отечества, случайностей, а также назойливости других людей, их бытие, жизнь их – непрекращающийся скабрёзный фарс. Грустно от нашей суматошной, пустой и трогательной жизни. Сказано: гляди кругом-то – на все беды и убожества наши…
Его уже не занимала тяжкая сумятица жизни. Прохожие фигурки, идущие по своим пустяковым делам, суетливо озабоченные своей общей комедией, тем, как бы схватить последнюю порцию сведений… Люди, которые много говорят о пустяковых делах, в глубине души чем-то недовольны. Но чтобы казаться честолюбивыми и скрыть свое недовольство, они повторяют одно и то же снова и снова.
Но есть такое слово "надо", как в сказке: "Пойди туда, не знаю – куда, принеси то, не знаю – что". Пойдёшь налево – придёшь направо. Критинские газеты, весь этот зловещий идиотизм, вынь да положь. Таскать вам не перетаскать! Сделай то и сделай это, постели постель… Ложись в постель, как циркуль в готовальню. Зряшная, ни к чему не приводящая, грошовая суетня. Ну что, торопыга, куда-то теперь торопиться будешь? Горошины на очаге скачут, покоя не знают, прыг да шмыг. Ах ты неотвязный, чего суетишься? Да ведь я того-с… оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья или суетного чувства. Суета сует и ещё трижды суета. Пусть ни одного мелкого чувства не останется в сердце, ни грамма пыли. Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зёрен, поменяй амбар. Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо всуе мятётся всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем во гроб вселимся, тогда иде же вкупе царие и нищии… Что было, то и есть – доселе и потом… Запомнится лишь то, что если жизнь – болезнь, то смерть – ее симптом. А остальное – месть. Вот смысл того, что есть. Не укоряй несчастных, когда, копошась во прахе, они мечтают о радости. Их следует прощать даже тогда, когда они обращаются к злу. С тем же успехом можно наблюдать, как омары в аквариуме ползают друг по другу (для чего достаточно зайти в рыбный ресторан). Хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение – ибо тогда и разочарование меньше. Минимум возни. Существуют места, где ничто не меняется. Паршивый мир, куда ни глянь. Куда поскачем, конь крылатый? Везде дебил иль соглядатай или талантливая дрянь.
Братец ты мой, сколько людей на этой планете? И не хочется встречаться ни с кем взглядом. Лица у людей неподдельно злы. Но неужели, Боже, одни лишь дураки дают приплод? Неужто вздох (когда целуешь в ушко) чужой жены, – он стоит чьей-то жизни? Всё же слишком часто неоправданно злы. И таких большинство, если в этом есть утешение. Удивительные люди знак восклицательный знак вопросительный. Люди грядут, которые больше не будут бояться себя, ибо не страшен тот, кто сам себе не страшен. Кто не боится людей, того и люди не боятся. Я думаю, первоисточник зла – в невыносимости человека для самого себя. Если я невыносим себе, я так или иначе разрушу и всё вокруг. А между тем, согласно естественному ходу вещей… И даже улыбка – это первобытный оскал, защитная реакция, устрашающая и обнажающая клыки.
Что это за мир, где не только дружба перечеркивает вражду, но и вражда перечеркивает дружбу, а могила и урна перечеркивают всё. И больные желудки, и исполненные подозрения сердца, и жесткие улицы, и столкновение идей, все человечество пылает ненавистью и пепелицей. Хватит времени, чтобы умереть в невежестве, но раз уж мы живем, то что нам праздновать, что нам говорить? Что делать? И мы все лишь деремся до смерти – Зачем? На самом деле, зачем я сражаюсь сам с собой?
Зачем еще нам жить, если не обсуждать (по меньшей мере) кошмар и ужас всей этой жизни. Боже, как мы стареем, и некоторые из нас сходят с ума, и все злобно меняется – болит именно эта злобная перемена, ведь как только что-нибудь становится четким и завершенным, оно тотчас разваливается и сгорает.
«Выбор преступниками места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определённую роль здесь играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком около входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра и т.д.)».
Глава 10. Женский элемент
…Как раскладывал бы ее поперек кровати ночью всю мою и старательную и искал бы ее розу, копи ее бедер, ту изумрудно-темную и героическую вещь, которую хотел. Вспоминаю ее шелковистые бедра в узких джинсах и как она складывала одну ногу, подсовывая под себя ладошки, и вздыхала, когда мы вместе смотрели телевидение…
Я покажу забытой, что не забыл. Да кто там топчется, черт возьми, кто этот слюнявчик, бубнящий чушь в её жёлтые, спутанные пряди, когда она качается в моих руках? "Какие танцы, Заратустра, – бормочет она. Уходи, не мешай нам…" Уходи, танцор, и вы тоже уходите, – вы, жрущие горстями снотворное и пускающие в тёплые ванны свою рыбью кровь, – как вы вообще смеете корчить гримасы, даже если жизнь испражнилась вам в морду? Радуйтесь! – она пометила вас как свою территорию, она будет защищать вас! И все остальные, – от рыбака до фискала, – пошли вон! Ей не хватает воздуха, а мне доверия к вашим шаловливым ручонкам: вы обязательно растащите моё тонкое листовое время, эмали чувств, тиски обстоятельств, молоточек сердца, начеканите целую кипу ереси – пьяный блудный сын променял папу на грешницу, – и всё это останется невостребованным, как жёлтые перстни рыночного армянина… – Я бы выклянчил бы себе мраморное сердце, – но все это могло бы быть лучше, чем может быть, одинокие нецелованные губы мрачно кривятся в склепе. Я сделаю это, я вылижу последний уголок жизни, куда она вся и забилась. Все вон! В моём маленьком мерцающем кадре места лишь на двоих, и мне не нужны апостолы, а тем более зрители. Сейчас, пока я не протрезвел, мне хватит слёз, чтобы омыть её грязные ноги, и жара губ, чтобы осушить их, – а потом я положу к этим ногам все заработанные войной деньги, все усыпанные бриллиантами ордена, и, попросив – нет, не отпущения грехов, – а всего лишь разрешения остаться до утра, улягусь у её ног.



