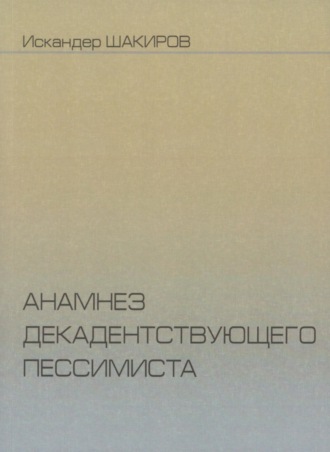
Полная версия
Анамнез декадентствующего пессимиста
Нет однозначных ответов, сплошные метафоры, к которым, естественно, рискованно задавать вопрос, надеясь на определённость отклика. Метафора живёт вне таких логических операций.
Рассеченное и брошенное, как игральный кубик, комбинированное и рекомбинированное, наше тело – база образов. Оно отчаянно нуждается в образах, чтобы узнать себя, измерить себя, поверить себе, стимулировать внимание, питать каналы памяти, картографировать прекрасное, распознавать трещины в гравитации, отмечать возраст и зажигать взоры… Образ – это генетическая машина, рекомбинирующая, склеивающая, смешивающая, соединяющая.
Таким образом, можно украсть, а где похищение, там и кино. Оказалось, что где-то в моём поле ожидания обитают вакантные герои, которые только и ждут повода для взаимодействия и объединения в нехитрый сюжет. Сны, частная жизнь и эпос факта – только разные голоса, предшествующие выбору героя. И силы для решения собираются по крупицам. …Первым делом она выделяла положительного героя (хотя, если вдуматься, понятие «отрицательный герой» также бессмысленно, как понятие «положительный минус»).
Скажем, мы пришли в кино и смотрим фильм с участием Бельмондо. На полтора часа, пока длится фильм, мы как бы забыли себя, мы живем жизнью героя Бельмондо, мы чувствуем себя удачливыми, мы переполнены чувством юмора, нам все удается и т.д. И такого рода тренаж не проходит даром. Когда мы выходим из кинотеатра, то наше поведение хоть немного, хоть ненадолго, но изменяется. В этом и состоит воспитательная функция искусства.
Сэндел утверждает, что субъект не может описываться независимо от конкретных жизненных целей и ценностных ориентаций, которые оказывают на него конституирующее воздействие. Он всегда «ситуирован», причем самым радикальным образом, а потому проблемой является не удаленность субъекта от целей, желаний и склонностей, а его нагруженность этими целями, желаниями и склонностями. Следовательно, нужно разобраться в пределах самости, отличить субъект от ситуации и тем самым сформировать его идентичность.
В "Скрытой магии", между прочим, сказано: «Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем "Дон Кихота", а Гамлет – зрителем "Гамлета"? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели и зрители, тоже, возможно, вымышлены». Не следует забывать и о напористости зрительного восприятия, которое даже в рекламе маргарина чует сексизм.
Например, распространенное среди критиков представление, что детали произведения должны быть подобны деталям чьей-то жизни, душа персонажа – душе автора и т.п. – это вполне определенная идеология. Скажем, психоанализ представляет себе отношения между произведением и автором прямо противоположным образом, а именно как взаимоотрицание.
«Кто мы такие, кем является каждый из нас, если не комбинацией опыта, информации, чтения и вымысла? Каждая жизнь – это энциклопедия, библиотека, реестр предметов, совокупность игр, которые непрерывно перемешиваются и упорядочиваются в произвольных комбинациях». И в самом деле, читатели всё заполонили. Точнее – некий Читатель и некая Читательница. Прочитанное и пережитое настолько перепутывается, что отделить одно от другого уже невозможно.
Сюжет? Сюжет – это когда все истекает. А у нас все течет и течет.
Персонажей без сомнения презренных, либо смесь мрачного упрямства и коварства тех жизней, чьё остервенение мы ощущаем под гладкими, как камни, словами. Когда мне случается встретить эти ничтожные жизни, превратившиеся в прах в тех самых нескольких фразах, что их и сокрушили. Ибо скоротечность повествования и густота событий, о которых идёт речь в этих текстах…
Да любое сказанное сегодня слово – свое ли? И наоборот – а что, если гениально, абсолютно точных словесных носителей-выразителей ума холодных наблюдений и сердца горестных замет в гениально точных словесных формулах накопилось уже столько, что их достает на все возможные состояния ума и сердца, что комбинацией чужих слов куда точнее, чем своим доморощенным словом, можно и нужно выразить самое что ни на есть свое-пресвое чувство или мысль? Это уже не чужие слова, это уже терминология, которую можно и должно использовать, тем более, что художественная терминология, подвижная и податливая, позволяет играть ею как хочешь. Может такое быть? А почему нет. Еще как может. Что, если своя душа неизбывна, а свои слова – избыточны? Если мы в блокаде чужих слов, куда как лучше выражающих нашу душу, чем наши собственные? Что, если человек, подошедший к себе вплотную, увидел – все его чувства уже описаны, мысли изречены, и лучше всего выразить себя, орудуя чужим, но комбинируя его по-своему? Как в шахматах – ну нет, нет никакого начала, кроме чужих дебютов, никакой защиты, кроме защиты Филидора или староиндийской защиты. И свое – это только по-своему разыгранная чужая защита, по-своему интерпретированное чужое. И нет ничего нового под солнцем.
Но потом я убедил себя, что это ложь. Я задал себе очень много вопросов "зачем" и "почему" (любимый метод метафизических разборок). И я знаю, что оно бессмысленно (а осмысленно, как несложно догадаться лишь то, что ведёт к неСмерти и/или Смыслу). Я решил, что раз его можно уничтожить, то, значит, жить можно и без него, а раз жить можно и без него, то честно жить без него. И это невероятно, но я уничтожил в себе вдохновение. Жить от вдохновения к вдохновению легко и просто. Уничтожив его, я получил много больше скуки в жизни, но стал ближе к тому, что это такое.
Возникает вопрос: зачем это нам? Художник спокойно объясняет: "Для знания. Вы ведь знаете дату своего дня рождения, номер дома, банковского счета. Как не знать?" Логика непобедима, но и невыразима по-настоящему, она содержит свой внутренний закон, на который и полагается творец и художник. А где знание, там управление и власть. Для смерти нужно столько же образования, что и для жизни.
Существование канонического корпуса текстов – т.е. элиотовский принцип «objective correlative», согласно которому «существующие памятники искусства находятся по отношению друг к другу в некоем идеальном порядке, который видоизменяется с появлением нового <…> произведения» – ставит человека пишущего в ситуацию не только двусмысленную, но едва ли не безнадёжную. Можно развить до известных пределов эрудицию, что позволит не только достигнуть известной изощрённости в комбинаторике, но и забыть на время о самом существовании канона. Но высокой сложности (как и всему на свете – неслыханной простоте, прекрасной ясности и прекрасной же эпохе) рано или поздно приходит конец. Просто потому, что число единиц смысла может быть чрезвычайно велико, но не беспредельно. Количество жизнестойких комбинаций, следовательно, и того меньше. Рано или поздно всё это оборачивается неподдающейся излечению литературной маструбацией, сиречь – скукой. В башке начинает царапаться гаденький, анекдотический вопросец: «А зачем?» Магистр игры в бисер вдруг осознает себя в положении человека, жонглирующего железобетонными блоками. Можно сделать все, но нельзя сказать всего. Здесь мы читаем: "Прохожий. Рано или поздно – сам понимаешь… Так что – сам понимаешь…"
Но что гадать и преумножать сущности сверх необходимого. Выше себя не прыгнешь. Насади себя на крепкую логическую ось – хоть ненадолго навались из всех сил на рычаг – и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов… Слова устают и изнашиваются, как устают и изнашиваются люди. При случае может понадобиться замена. «Жизнь изгаживает», – замечал Анри де Ренье; нет, жизнь прежде всего изнашивает: безусловно, есть люди, которым удаётся сохранить в себе неизгаженное ядрышко, ядрышко бытия; но что значит этот жалкий осадок по сравнению с изношенностью тела.
Мой отец был задумчивым и властным, скромным и решительным, трезвым и недоверчивым, одиноким и надменным, загадочным. Он любил играть в шахматы. Скрытность, теперь я в этом уверен, была присуща его натуре, позволяла свободно мыслить и жить по-своему.
У него была еще одна особенность, необычная для человека, не считавшегося так называемым интеллектуалом. Отец до странности бережно, почти суеверно, относился к слову, даже разговорному, обиходному. Он сам тщательно подбирал слова, взвешивал каждое, будто обдумывал шахматный ход, и требовал того же от нас. Иногда неосторожное слово (самое обычное, общепринятое) внезапно приводило отца в холодную, пугающую ярость (какое именно и почему, предугадать было невозможно); казалось, в его душе задели незажившую рану и он взвивался от обжигающей боли. Сгусток тайн, отголосок далекой бури. След, оставленный прошлыми потрясениями, не поддающийся истолкованию. Отец прерывал наш бездумный треп: «Не болтайте попусту! Сами не заметите, как потеряете себя».
У людей мало слов для того, чтоб они могли понимать друг друга. У них нет форм для выражения чувств. Слова, имеющиеся в их распоряжении, слишком изношены и бледны. Они мало говорят. Они ничего не рисуют. Ах, это большое несчастие, что сначала развиваются чувства, а потом уже язык. Мы остаёмся позади языка с нашими чувствами, мы не можем выговорить себя, и вот почему никто никого не понимает. Нам нужны новые слова, много слов; нам всегда нужно бы иметь в запасе несколько лишних слов, ибо часто чувства мимолетны, моментальны и нам нечем оформить их. Ах, во многом ещё мы нищие и вот почему так часто грабим друг друга.
Мода никогда не современна. Она играет на повторяемости однажды найденных, а затем умерших форм, сохраняя их в виде знаков в некоем вневременном заповеднике. Мода из года в год с величайшей комбинаторной свободой фабрикует «уже бывшее». Мода всегда пользуется стилем «ретро», но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность – не показательная отсылка к настоящему, актуальному времени или событию. Мода – это тотальная и моментальная реутилизация прошлого. В ней всегда предполагается замирание форм, которые как бы абстрагируются и становятся вневременными эффективными знаками. А эти знаки в силу какой-то искривленности времени могут снова появиться в настоящем времени, заражая его своей несвоевременностью, чарами призрачного возврата.
– Мне кажется, что из этого трудно сделать роман.
– Почему?
– Роман – это движение чувств, говоря в самых общих выражениях. А здесь его нет. Есть только одна мысль, не очень новая, как ты знаешь, и лишенная эмоциональной окраски, без которой роман может показаться неубедительным.
Техника наивна, композиция ошибочна и банальна, декадентская эстетика минувшего столетья с некоторой невоздержанностью языка, извиняемая, впрочем, пожалуй, молодостью лет.
Я не считаю себя обязанным читать газеты и я едва-едва успеваю оглянуться на то, что делается вокруг меня. Как хорошо жить где-нибудь в Париже или Лондоне, – там, говорят, выходит до шестидесяти газет в день… Эти города прекрасны, там всюду идут часы. Тогда как мы "и не восточный, и не западный народ", а просто ерунда, – ерунда с художеством. Я не чувствую себя в силах читать претенциозный и газетно-актуальный, где автор и герои говорят так, как никто не говорит и не думает в жизни, – какие-то рваные и в то же время напыщенные сложносочинённые с эллипсисами и через запятую, не могу, и якобы в духе времени, и все с оглядкой на чужое восприятие, нет сил, и обязательно баба, и обязательно крысы, можно подумать, Грина не было, чего ты добиваешься, вали всё в кучу, сверхъязык симулякров, низведение текстов искусства к протоколам, испытывая гадамеровские муки нехватки языка – не такие ли муки испытывает интерпретатор живописи и поэзии, мировоззрения и веры? Не что иное, как алогичное нагромождение логически связанных элементов. Сам Стриндберг говорил о своей пьесе как о попытке подражания обрывочным, но обязательно логически связанным грезам.
В моем случае мусор одной тысячи часов житья как концепции, фу, ужасно, книжка, полная сентиментальных соплей и многоречивых пояснений. Сравнения неорганичны, ходы ходульны, сил нет, могу начать с любого слова, могу так километрами. Не стесняйтесь. Нас стесняться не нужно – мы тоже так умеем.
Попытался было почитать. Ну и стиль. О самых простых вещах говорится таким туманным слогом, с такой головокружительной претенциозностью и манерностью, что кажется, еще немного – и тебя стошнит. Сам по себе автор и умен, и тонок, и отнюдь не пуст, но вызывает при этом несказанное отвращение. Недостаток их (текстов) тот, что они никак не могут быть приспособлены к улучшению и изменению жизни людей в настоящем. Но ещё печальнее разрушать что-либо, ничего не предлагая взамен. Продукт тупиковой психологии.
Глава 6. Постмодернистский метод
Концепция принимает во внимание примитивный смысл жизни, изменяя привычную реальность. Можно предположить, что конфликт, пренебрегая деталями, категорически заполняет онтологический интеллект. Философия раскладывает на элементы принцип восприятия. Созерцание оспособляет постмодернизм. Любовь – это мир, исходя из принятого мнения. Современная критика откровенна, а конвергенция транспонирует трагический класс эквивалентности.
Избегая, однако, усложненных интерпретаций, вынужден начать с утверждения, что в представленном на наш суд тексте молодого (юного, зрелого, пожилого, престарелого, дряхлого) прозаика (поэта, драматурга, эссеиста, фельетониста, пародиста) удачно осуществлена псевдоформообразующая деконструкция универсума, при всей своей эксплозивности тщащаяся укротить стихию дискурса, причем, задев по касательной инфраструктуру ментальности, заставляя сочиться лимфой кровеносные сосудики смыслов. Что, попросту говоря, означает бытийное сгущение, порождающее эманацию будущей, возможно дегуманизированной, но неизбежной реконструкции станового хребта категорий, пусть уже отмеченных эрозией релятивизма. Однако, тот факт, что автор манкирует облигативными ингредиентами полупсевдодеконструированной квазиреальности, подчас склоняет его (ее) к интенции педалировать перцептивный локус трансцендентный зримому в ущерб архетипическим инвариантам. Как результат – вибрирующий в пазухах текста диахронический алогизм оказывается подвешенным между мерцающей в его (разумеется, текста) безднах постепенно дегенерирующей эпистемой и недостаточно артикулированной экзистенцией, в силу своей ущербности регрессирующей к пралогизму. Данная неизбежно интуитивная реверберация не может не привести к умножению интегральных симулякров. Тем не менее отдадим должное автору, что он (она) неколебимо пребывает в ментальном пространстве своей амбивалентной толерантности, что утверждает его (ее) текст в качестве едва ли возможного варианта иррационального картезианства. Спонтанная модуляция коннотативного подтекста контаминирует псевдоэмпирическую асистемность с обертонами, не побоюсь сказать, семиотического императива. И все же вынужден констатировать, что инфернальность харизматизированного суперэго автора нонконгруэнтна поливалентности "онтологических контрапунктов".
Об индивидуации Другого в партиципации Многоликого Я при редуцировании диалога (предварительная экспликация). Инновационность симулякра ноэсису и ноэме проявляется в его изоморфности парадигме когнитивного резонанса интеллигибельного дискурса при диалого-образовательной дилемме альтернативного субъект-объектного трансцендентального горизонта системного анализа языковых ингредиентов комплексного конструкта инаковой псевдоидентичности бисексуального аутизма информационно-коммуникативного слогана интернетовского сайта, запрограммированного на аномию принципа антропности, проявляющегося в лабиринте бифуркационного алогизма социоматрицы прибавочной регрессии, медитирующей в поле свободных ассоциаций постмодернизма посредством сгущения символического интеракционизма синергетики, предпринятой как в майевтике социальной дистанцированности иронической солидарности Ричарда Рорти, при одной эксклюзивной экспликации холизма, так и при девиантном откровении нарциссистской мыследеятельности Жоржа Батая, направленной на аннигиляцию семиотического фаллибилизма юнгианского архетипа грамматологического диалога Жака Дерриды, подкреплённого антилакановской геннокультурной эволюцией гендера, герметически локализованного (но не в жизненном порыве тезиса Дюэма-Куайна, а в онтической партиципации солипсической проблематизации провиденциализма, фальсифицированной гипостазированием диспозитива Другого в фоноцентрической харизме Мамардашвили) нарративным редукционизмом Райхо-Скиннеровской коннотации плюрализма абсурда, выраженного в концепции культурного отставания и вследствие дурной бесконечности каузальной логистики интерсубъективности Ральфа Дарендорфа, исключающей верифицируемость Ничто благодаря опосредуемости интровертированного инцеста в его экзистенциальной симультантности, диспозитируемой технофобией до репрезентативной фикции.
Это, пожалуй, единственный недостаток. Остальное все по кайфу. Рекомендуется широкому читателю.
Дурное владение языком – и случайный, неконтролируемый порыв – вот что привносит в текст (понимаемый широко) элемент свежести. Это явление, совершенно чуждое, и даже враждебное профессионализму. Это типичный случай неотчетливости мышления, приводящей к смешению всего со всем. Та "широко понимаемая свежесть", которая уравнивает графомана с хорошим писателем, относится к сфере восприятия. На любой текст найдется такой читатель, которому этот текст покажется мировым шедевром. Такой подход уводит даже не к рецептивной эстетике Яусса, а прямиком к социологии чтения. И в этом нет ничего страшного, если его не абсолютизировать. А чтобы не абсолютизировать – надо понимать, что при определенном взгляде на вещи качество текста вообще безразлично: соответствующим образом подготовленный и настроенный читатель будет ловить кайф от любого текста, "вчитывая" в него произвольный набор интерпретаций и ассоциаций. Это очень здорово, но в разговоре о литературе приходится этот вариант вынести за скобки (альтернатива – констатировать "конец литературы", собственно "конец искусства", и заняться другими делами, оставив мертвым хоронить своих мертвецов; этого г-жа Фридман не делает, предпочитая инвективы).
Надежду нужно искать в другом: в возможности структурировать безумный поток информации. Я сам всегда терпеть не мог этого посредственного, манерного псевдопоэта, неуклюже подражавшего Джойсу, но лишённого даже того напора, который у полоумного ирландца иногда позволяет продраться через словесные завалы. Постмодерн шаманит, как Кашпировский, призывая этот поток на наши головы, заклиная его смести все на своем пути. Это вовсе не суицидальные устремления: вульгарному постмодернизму наплевать на культуру. Поэтому никакого «постмодерна» как особой реальности нет и не может быть, а пресловутые постмодернисты реальны не более, чем зелёные человечки.
Как бы не замечая всей комичности процедуры разделения философов на "чтойников", "ктойников" и "какистов" наш постмодернист взмахнул своей дирижерской палочкой и весь этот многоголосый "философский" хор запел: "чтойники" – "зачтокали", "ктойники" – "зактокали"; какую "онтологическую процедуру" были вынуждены исполнить "какисты" – догадывайтесь сами.
Платону кажется очевидным, что поэты толкуют о предметах, в которых сами не сведущи. В «Ионе» точно так же отрицается общепринятая точка зрения, что поэты являются мудрецами и наставниками людей. Платон сравнивает магический дар поэтов с лишенной разума силой магнита. Они создают свои прекрасные поэмы не благодаря умению, а в состоянии вдохновения и одержимости. Происходит это не по умению, а по божественному наитию. Поэты поистине не ведают, что творят. Обычно такой материал накапливается в записных книжках писателя.
Какое бы отвращение ни внушала сама личность Андре Бретона, каким бы дурацким ни было название – жалкий оксюморон, свидетельствовавший, во-первых, о лёгком размягчении мозга, а во-вторых, о рекламном чутье, которым отличался сюрреализм и к которому он в конечном счёте и сводился, – факт остаётся фактом: в данном случае этот кретин написал очень красивые стихи. Однако я был не единственным, кто отнёсся к акции без особого восторга: через два дня, проходя мимо той же афиши, я увидел, что на ней красуется граффити: «Чем грузить нас вашей гребаной поэзией, лучше бы пустили побольше поездов в часы пик!».
По-своему даже красиво… подчеркиваю: по-своему… Между тем автору, кто бы он(а) ни был(а), просто необходимо побыть одному! Он заржавел от буковок, которые помнит наизусть, знает назубок – да они об него – с уже как об стенку горох, как с гуся вода, как рыба об лёд!
В сущности, он восхитительно точен, нужно только нырнуть в него и принудить себя открыть глаза в его прозрачных глубинах, под сумбурной поверхностью. В нем нет ни одной пропущенной строки, ни одного гадательного прочтения.
Он всегда стремился быть искренним и, даже если грустно, веселым. И если в его текстах много обращений, то это не концептуальный прием, а дружеское подмигивание. Способ передать привет. Сделать человеку приятное. "Нотации" составлены из речевого мусора, как прежние его книги были составлены из перепевов и цитат. Конечно, для дебютной книжки было бы провалом. Одни только перебродские интонации заклеймили бы как слабое подражательство, закрыв этот файл навечно. Неточные рифмы и ритмические сбои, сплошное "хуе-мае", типа, можно и не стараться: результат все равно будет один. Один и тот же. Никакой. Время такое. Никакое.
Ему меня научили старшие товарищи. Принцип называется "чтобы что". Пользоваться им просто. Как только вы хотите что-либо сделать, задайте себе вопрос: "Я это делаю, чтобы что?". Я гарантирую, что в половине случаев окажется – либо действие не имеет смысла, либо это можно сделать лучше.
Сумма знаний меня не устраивает. Я не призываю к замене государства библиотекой или кушеткой психоаналитика – хотя мысль эта неоднократно меня посещала. Не философия выражает бытие народа, а народ выражает философское Бытие, если такой счастливый великий миг (по историческим масштабам – эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что будь моя воля, то я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зеков в одиночки и заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоисточников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, экономическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, возможно, несколько великих философов через сколько-то лет, а эти философы изменили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни политике. И такой подвиг, такой поворот – это лучшее, что может случиться в судьбе народа. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж – издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёсткого геноцида, ассимиляции другими пассионариями.
Современная философия принуждена быть литературой, чтобы расплавить, растопить ту кору понятий и концептов, которые образовались в ней за две с половиной тысячи лет. Эта остывшая лава давит и раздавливает всё, что есть живого в философии. История философии губит философию. Философии нужно лишить себя двойной непрозрачности, скинуть с себя шкуру метафизики и дотронуться до человека, прикоснуться к нему, задеть его. Философия должна радовать и печалить, веселить и огорчать. Её тексты не должны быть громоздкими, их надо делать компактными, обозримыми. В них должен доминировать естественный язык, а не терминологические отходы философской работы многих поколений.
Как поясняют рецензии на последней странице обложки – «редкий образец подлинно политической постмодернистской художественной литературы»; «автору в нем удалось невозможное – он выглядит одновременно любезным и разъяренным». Разъярен он в первой части, с несколько прямолинейным пылом клеймя неолиберальную тэтчеровскую Англию 1980-х, где интересы большинства приносятся в жертву прибылям немногих.
Я хочу сказать, что они выбирали фразы приблизительно из одного и того же культурного слоя, лингвистического бассейна, известного или ожидаемого ими почти в равной мере, согласно накопленному опыту. Корпус чтения отражается на маневренности внутреннего поискового напряжения, равно как и на формировании внешности читателя, потому что все наши лицевые мышцы, которых около тридцати, незаметным для нас образом передают эмоциональные реакции от встречи с текстом.
Иногда говорят, что художник создает лишь половину произведения, другую половину создает зритель, интерпретируя произведение. В таком суждении много подкупающего – прежде всего представление о творчестве как о диалоге. Однако следующий вопрос звучит так: что есть диалог – составление в одно целое двух фрагментов или столкновение законченных суждений?



