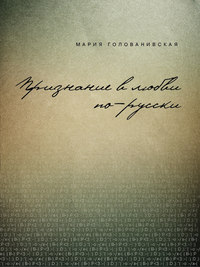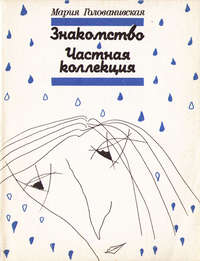Полная версия
Кто боится смотреть на море
Поправила прическу, надела одежду поновее. Заплатит парню пятьдесят евро – она любила патронировать, покровительствовать; бывало, подберет в институте какого-то монтеришку, совсем никудышного, замшелого, одиноко живущего в норе, и давай ему бутерброды таскать: поешь давай, бери, не стесняйся, тебе силы нужны. Приручала, любила незамысловатую благодарность: донесет чего-нибудь или просто при встрече остановится, назовет с выражением по имени-отчеству. Вот и сейчас подумала: надо на этого Пашку посмотреть, мается небось на чужбине. Но он оказался совсем не бедолага: в красивом свитере и аккуратных джинсах, и даже не в кроссовках, а в ботинках, – и Майе это понравилось: старается парень. Значит, тем более достоин. Они быстро разговорились по дороге в Фуэнтеррабию – живописный городок в сорока километрах от Сан-Себастьяна, рыбацкая деревня с геранью на окнах, платанами, старинным замком и эскалаторами, уносящими людей в небо, наверх, к замку. Красотуленька! Майя даже всплеснула руками. Все ставни покрашены в яркие цвета, стены снаружи беленые, между деревьями флажочки натянуты, речь везде французская слышна – она сразу отличила. «Так тут до Франции рукой подать – на лодочке переправляешься, и через десять минут ондаи, парле ву франсэ», – с гордостью констатировал Паша. «У нас-то страна большая, – протянула Майя, – у нас таких фокусов не бывает. По дому-то скучаешь?» Он пожал плечами: «Дома-то хорошо, да делать там нечего, у нас все поразваливалось. Завод был, работали, а сейчас стоит, так все поуезжали, старичье одно мается». Майя захватила с собой пирожков с рыбой и рисом, старые были в холодильнике, но она их оживила на паровой бане. Паша с удовольствием принялся за пирожки, ел с аппетитом, нахваливал, говорил, что кухня в Сан-Себастьяне отменная, но лучше домашнего-то ничего нет, да и рыба эта ему по барабану, он по мясу больше. «Ну, заходи, приготовлю тебе», – по-матерински пообещала Майя, и он закивал, пустившись потом в пылкие россказни о своей семье в Николаеве, о былом хозяйстве, войне, жене, тоскующей, но понимающей, за что страдает. Ежемесячно посылает им по пятьсот евро, так они уже и дом починили, и дети в школу ходят одетые, и еду им шлет, подсадил на хамон. Потом разоткровенничался о девахах, не заметив, как Майя помрачнела: «Гроздьями вешаются, Майя Андреевна, отбоя нет! Ох и охочи тутошние бабы до мужиков. Особенно англичанки. Не разбуженные они, а хотят, парней настоящих как будто и не видали, стонут, кричат мор, мор, а потом обязательно сенкью. За что, спрашиваю, сенкью-то? Брат сначала приехал, в кафе работает барменом, тапасы-шмапасы продает с козьим сыром жареным и помидоровым вареньем, пробовали? Надо. Я вам принесу, возьму у него некондицию, они еще вкуснее. Или с креветкой, тертым яйцом, хамоном и майонезом. М-м-м!» Майя представила себе Пашин член, посмотрев на аккуратный бугорок на джинсах, ладненький небось. Это у нее было в заводе – разглядеть и оглядеть. И от чего там стонать? Да ну, сказки! Иной раз у худющего мужчины с тонкой шеей такое хозяйство проступает, но внешнего вида нет и впечатления нет. Конфуз один. А иной раз глядишь на бычка, низенький, крепенький, лицо напряженное, злое даже, и сразу понимаешь: вот этот уж если дерет, то перья летят. А этот что… Трется небось, как теленок, а перед ней хорохорится, вроде как доверительность демонстрирует.
Но Паша был все равно приятен ей: его откровенности, его здоровый аппетит, и, когда они, оставив машину на набережной, пошли по городку, она даже взяла его под руку и угостила обедом. Чисто по-матерински, стопроцентно.
– Разве так надо жарить рыбку! – сетовала она на сардины, которые, по ее убеждению, были пересушены и немного подгорели. – Вот я готовлю, так это да!
Они пошли по улице, параллельной набережной, в один голос восхищаясь красными и зелеными ставнями старых двухэтажных домов, геранью на окнах и живописно болтающимися на веревках подштанниками, словно ничего тут многие столетия не менялось. Она заглянула в один магазин, в другой, купила Пашиному сынку лодочку из дерева и рогатку с баскским знаком, а ему самому черную беретку и начала было рассказ о Соне, аккуратно, вкрадчиво, надеясь за все свои благодеяния получить от него поддержку и полное одобрение всего упомянутого, но вдруг услышала голос Зухры, окликнувшей ее с тротуара напротив. Зухра была с мужчиной благородного вида, с хорошей осанкой, дорого и со вкусом одетого, в годах, но еще очень крепкого и моложавого. Они перешли к Майе с Пашей и с радостными улыбками принялись здороваться и жать руки.
– Это Юрий Григорьевич Вдовкин, – представила Зухра своего спутника Майе. – Приехали сюда купить ему куртку, тут ведь дешевле, в Сан-Себастьяне лютые цены.
– Я слышал о вас, – Юрий Григорьевич учтиво поклонился Майе. – И тебя, рысака, рад видеть! – сказал он по-свойски Паше и нарочито резко хлопнул его по спине.
Сели в кафе на набережной. Отошли от пышных улиц в сторону, поближе к океану. Кафешка простецкая для здешних мест, без лоска, но для советского человека более милы пластиковые стульчики и белые пластиковые столы, нежели барные стойки, высокие табуреты пивных или бархатные кресла кофеен. Официанты без белых передников в пол и французского прононса, как принято на центральных улицах, принесли клеенчатые меню, и усевшиеся быстро заказали – выбор-то был совсем небольшой: жареные кольца кальмаров, креветки, салаты, пиво, кофе и сладкие булочки.
На эти стульчики русскоязычная четверка сошла словно с открытки «Крым – 1985». Тютелька в тютельку. На Майе самопальная юбка, куплена в переходе как польская – крупная клетка, приталенная, ниже колена. Перед поездкой перетряхивала антресоли, наткнулась совершенно случайно и подумала: чем не вещь? Не мнется, скромная, надежная, а что старая – так кто же там это знает? Сверху блузка кремовая навыпуск, тоже из старинных закромов, купила когда-то в дореформенном ГУМе по случаю: зашла утром, и вывесили с большой скидкой. Планочка и воротничок словно из вафельного полотенца, а сама гладкая, с еле заметной крапинкой. Женщины такой крупности здесь, конечно, блузку навыпуск не носят, ну и что же – перетягиваться неудобным поясом теперь? Но стрижка у нее была по здешней моде, она с утра поправила, так что пускай гадают, откуда она такая необычная здесь появилась.
Паша за столом сутулился, и если бы не креветки с пивом, ну точно как биндюжник. Цокал, чмокал так, что Юрий Григорьевич сделал ему замечание и получил за это суровый взгляд от Майи.
Юрий Григорьевич был в светлых холщовых брюках на дорогом ремне, светлой сорочке, в легкой клетчатой светло-бежевой кепке, на плечах лежал синий свитер с белыми полосками на манжетах, – элегантный, как в кино. «Прям благородный лев», – отметила про себя Майя.
Паша заказал еще тарелку хамона, Зухра сок и пирожное с кремом, Майя крем-карамель, который в разговоре упорно именовала «яичным кремом», а Юрий Григорьевич высокий стакан желтого, как подсолнечное масло, пива, и Майя даже загляделась на крошечные пузырьки у стенок, прижимавшиеся изо всех сил к стеклу, но неотвратимо всплывавшие наверх себе на погибель. Юрий Григорьевич как будто старался не беспокоить их, отхлебывал осторожно, зря стаканом не тряс.
Лохматая официантка с наколкой в виде черепахи, проходя мимо, обронила полотенце, и Юрий Григорьевич учтиво поднял его и подал ей.
– Примите мои глубокие соболезнования. Мы все хорошо знали и очень высоко ценили Софью Андреевну, вашу сестру, – немного торжественно проговорил он. – Какой ужасный, ранний, несправедливый уход.
Майя тяжело промолчала.
– А что там в Москве? – уже иным тоном продолжил Юрий Григорьевич. – Давно там не был.
– Да всё там хорошо, – отмахнулась Майя. – В магазинах всего полно, бери не хочу. Коммуналка только растет, а так…
– Я имел в виду настроение, – улыбнулся Юрий Григорьевич.
– Грызня. Одни за Крым, другие против. Кто-то говорит, война будет, другие говорят, что, наоборот, лучше станет… Не поймешь. Но злобы много.
Юрий Григорьевич достал трубку, не спеша забил в нее табак и закурил.
– Ну а вы-то как думаете?
Майя вдруг почувствовала напряжение, да такое, что у нее защипал кончик носа. Что пристал-то? Дымит тут, вырядился в лорда, а потом раз – и донос в Москву накатает.
Но Юрий Григорьевич глядел на нее с улыбкой и совсем не был похож на стукача.
– Я вам так скажу. В Москве хорошо, а как на окраинах, не знаю. Может, там людей едят. В поликлиниках очереди, лекарства заоблачные, но мясо есть, рыба даже наша, и неплохая. Народ опрятный ходит, многие стали за страну, а что в этом плохого? А Крым… Для нашего поколения Крым – рай. Если был у нас рай, то там. Сколько детей родилось из крымских кущей! У нас как сотрудница в Крым съездит, так через полгода брюхо торчит. Без мужей рожали детей, тяжело растили, а все равно счастливые были. Песен сколько было! Без рыхлятины, без глупых припевов, настоящая романтика. А портвейн крымский… М-м-м… Там народное было море, горы, народ там наш был. И есть.
– «От Махачкалы до Баку волны катятся на боку», – сладко затянул Юрий Григорьевич. – Ох, как же я любил бардовскую песню! А вы?
– Я больше Зыкину любила, Пугачеву. «Арлекино» помните? Сейчас нет таких задушевных песен.
– Ну а Путин что? На века? – с улыбкой спросил Юрий Григорьевич.
– А кто лучше его? Либералы воровали, над народом глумились, олигархи куражились… Это что, их шахты были? Их нефть? В глаза говорили: сдохните!
– Я с вами, Майя… Как ваше отчество?
– Майя Андреевна.
– …Майя Андреевна, не согласен. Плохо было – да, тяжело, но настоящие либералы у власти так и не были. Шестерки одни.
– Ну, если б еще и настоящие пришли, нам бы совсем каюк настал.
Паша и Зухра притихли: намечался огонь с двух сторон.
– Мне всегда Явлинский нравился, – решительно проговорил Юрий Григорьевич. – Он разумный был, грамотный, четко понимал, никогда кровожадных идей не высказывал.
– Малахольный ваш Явлинский! Да где он, куда заховался?
Майя сделалась пунцовой, руки принялись теребить салфетку.
– А вот и не скажите, – с нажимом проговорил Юрий Григорьевич, – нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Многое из того, что он говорил, сбылось. Еда есть, все выровнялось, законов только хороших нет. Он рыночник был, настоящий демократ, но с человеческим лицом.
– Да что вы тут понимаете! – взвилась Майя. – Сидите как у Христа за пазухой, хамон в зубах завяз, поуехали все, а Россию в покое оставить не можете. Кто у вас тут главный? Король? Вот про него и думайте! А то – нет, рецепты какие-то, прогнозы. Окститесь уже.
Она встала и опрокинула стул, Юрий Григорьевич подхватился, поднял стул, принялся ее усаживать.
– Ну, простите меня, дурака, и что это я о политике, в самом деле. Вы правы во всем, это я от жизни отстал, да и заскучал, домой-то всегда тянет.
Майя села, отпила воды и неожиданно для себя смягчилась:
– А вы-то чем в жизни пробавлялись?
Юрий Григорьевич был инженером, даже в оборонке поработал, но без секретности, слава богу. Сыновья у него, внуки. Уехал, потому что дети переехали в Европу, а жена померла, не оставаться же ему на старости лет одному в стране. Вот и забрали его сюда. Оттрубил, как положено, от звонка до звонка, восемьдесят три процента дней в году начинались одинаково – со звона будильника, икру на хлеб не намазывал. Когда перестройка началась, ходил и на Смоленскую, и везде, к Белому дому ходил, видел своими глазами. Газет вот только теперь нормальных нет. Жалко. А как раньше читали «Московские новости»! Взахлеб. И «Огонек» Коротича. Все сдались. «Независимая» стала никуда, «Новая» еще хоть как-то держится, но единственная радость тут – телевизор и русское чтение.
Майя фыркнула, но спора не начала.
Было в нем что-то симпатичное, мягкость, что ли, манера, глядел он трогательно и открыто, заплатил за всех. Приятно.
Они встали, Юрий Григорьевич рассчитался. Пошли назад по набережной, он взял Майю за локоток, учтиво, бережно. Они впереди, Паша с Зухрой сзади.
– Поедемте на моей машине, покатаю вас, – робко предложил Юрий Григорьевич, – тут красоты, горы, море, святая тропа идет паломническая… Я вас старой дорогой повезу, там виды самые лучшие.
Она согласилась. Он заплатил Паше за услуги, и тот с Зухрой тут же испарились в воздухе, словно и не было их.
Они медленно поковыляли к машине на затекших от долгого сидения ногах мимо зонтиков, ярких кафешек, аккордеониста под платаном. Ей было приятно идти под руку с мужчиной, а ему было приятно, что он идет с дамой хоть и на редкость чудаковатого вида, но московской, родной, своей, понятной, которой никуда не надо спешить, которая тоже, по всей видимости, одинока и с которой он сможет нарушить здесь свое унылое одиночество.
Машина у него была роскошная, Майя отметила это: черная, лакированная, с кожаными бежевыми сиденьями и приятным запахом дорогого табака внутри. «Кино какое-то», – подумала Майя, а вслух заметила: «Не машина у вас, а корабль. Я на такой и не ездила никогда». Ему было лестно, она видела.
Поехали. Поднялись сначала наверх к старинным стенам и крепости, и Майя сказала: «Как в кино, только это не декорация, а настоящий средневековый крепостной вал, и собор по-настоящему старинный, по-честному, в России от такого времени и не осталось ничего». Он кивнул. «Вы историк?» – «Да что вы, я простая кадровичка на пенсии, по меркам людей науки и искусства – маленький человек с галерки».
Спустились к лесной дороге, что шла над морем. Останавливались, глядели на горизонт, слушали шелковистый шелест океана, щурились от солнца – яркое оно здесь до боли. Майя рядом со спутником чувствовала себя на удивление комфортно: рост его позволял ей казаться самой себе женщиной, а не гренадером – он был на полголовы выше. Пахло от него приятно – лимончиком и свежестью. Лицо Юрия Григорьевича в какие-то моменты даже казалось ей красивым: нос небольшой, заостренный, щеки, хоть и с красными прожилками, и старые, впалые, а с благородцей в очертаниях, скулы мужественные, выступающие.
По дороге они заехали в Пасайю – крошечный городок у горы, с главной улицей, нависающей над морем, зашли там в ресторан с белыми скатертями – закрытый еще после обеда, но кофе и мороженое им подали. Откровенничали: она ему про подружек, совсем немного про Соню – знала себя, что может обрушиться настроение, и тогда будет не до милой болтовни, – он ей про жену, как любил ее и как страшно она уходила. Потом заказали шампанского, кислющего на Майин вкус. От шампанского Майя захмелела, океан закрутился у нее перед глазами, скала; ей вдруг показалось все смешным: и эти скатерти, и официанты, начищавшие серебро перед ужином, и старый лодочник, который, переправляя людей с одного берега проливчика на другой, каждые пятнадцать минут махал официантам рукой без малейшей реакции с их стороны. Она смеялась, без стеснения показывая собеседнику золотой зуб, что был у нее во рту с незапамятных времен. Когда он говорил о жене, сама того не заметив, опустила свою руку поверх его – холеной, с перстеньком на мизинчике – и сказала даже на «ты»: «Ну, не убивайся ты так, не старый еще, поживи, отпусти горе-то. Дал Бог пожить – живи».
Они вернулись под вечер, он подвез ее к подъезду, и она, веселая, не удостоив Хесуса – сменщика портье, молодого модника в очках с затемненными стеклами, – даже легкого кивка, поднялась к себе, скинула в прихожей туфли и запела. Когда она последний раз так вот пела после прихода домой? Лет тридцать назад? Сорок? Да, да. Когда окончила курсы, сдала экзамены и впереди были каникулы и новая жизнь.
Быстренько, как в молодости, сняла с себя все, занырнула в душ, обернулась в халат и плюхнулась в кровать прямо поверх одеяла. А почему бы и не погулять тут чуть-чуть? Да смеха ради. Дает Бог – надо брать. Нормальный он, этот Юрий Григорьевич, и приятный, воспитанный, образованный. Что старый, так и мы не молоды. Она вспомнила его лицо, брови ежиком, серые глаза, совсем не выцветшие, как это бывает у стариков, красивенький маленький почти женский нос, сухие, чуть сероватые тонкие губы, серебряную щетину, проступившую к вечеру. Она вспомнила его запах, и рука ее скользнула под халат: да, ей хочется, она будет, а потом уснет, после этого так сладко засыпается, так нежно и протяжно спится… Она стала представлять себе то, что представляла обычно, репертуар оставался неизменным уже много лет: купе в поезде, молодая женщина и трое мужчин в отблесках молнии исступленно сношаются, и извиваются, и воют. Они наклоняют ее, входят в задок, потом в передок, она трогает их, они мастурбируют, кончают и в нее, и на нее, и потом опять и опять. Или в поезде же, но в другом, в плацкарте, мужик пьяненький, сальненький лапает бабу, и ей нравится, и они целуются, и она его тоже лапает и льнет к нему, а потом они оба семенят в клозет, запираются там и в тесноте быстро так и страстно соединяются как придется, потому что невмоготу им, и сладко, и хорошо… В конце часто приходило еще одно видение: как немчура насилует девку, вставив ей в рот дуло, и, доходя уже до оргазма, она думает, вынет он ствол или спустит курок.
Она кончила, длинно, со стоном, свернулась клубочком, натянув на себя плед, и проспала так до одиннадцати утра – уходилась вчера, имела право.
– Майя Андреевна, пойдемте снова в кафе? Здесь, никуда не поедем. На набережной с видом на океан, там такие закаты!
Голос звучал очень тепло, но немного встревоженно: оказывается, он дозванивался все утро, а она не отвечала.
– Хорошо.
Она чувствовала себя легко и бодро. За ней ухаживали. Ничего не беспокоит – ни давление, ни ноги, ни десна. Отеков особых нет, вот что значит океанический воздух. И душевный подъем, а как же? Мужчина в дорогой одежде, с гладким, красивым европейским лицом и серыми глазами, как в рекламе дезодоранта, приглашает ее в кафе с видом на океан. Да видел бы его кто из отдела! Зашлись бы! Своими мужиками вечно хвалились, а у тех пузо, брыли висят, зубы чернее ночи от табака. А здесь… Ни один такой не жил в Москве в ее округе, там всё больше треники, ушанки, авоськи. Ну, есть, конечно, ухоженные молодые – с семьями, с упитанными детишками-щеканами в иностранных комбезах и новомодных сосках на прищепках, но лоску-то в них ноль! Она отвечала с девичьим кокетством, что не решила еще, будет ли сегодня выходить на улицу, так ведь славно вчера погуляли, и что она позвонит, когда решит. Это был ее старый как мир девчачий трюк, так она поступала в молодости, так все поступали в молодости: обещать, залечь на дно и посмотреть, что будет.
Повесив трубку, она огляделась и срочно вызвала Зухру убираться – кавардак же, хуже Сонькиного. А ну как решат они зайти – и чего? Зухра обещалась к трем, и Майя решила почистить перышки, сделать себе огуречную маску, предварительно почистив лицо кофейной гущей, а потом смазать кремом пожирней, питательным, чтобы разгладились морщины. И позагорать у открытого окна. Или, может быть, пойти в салон?
Подошла к ростовому зеркалу в прихожей. М-да. Но по отдельности кое-что еще неплохо. Живот. Небольшой, но под грудью жировой валик, никакой талии. На ногах венки, жилки, и на бедрах целлюлит. И что ему вступило?.. Длинные худые ноги, маленькая попа. Спина на твердую четверку, но сутулость – скрючилась, словно два ведра на коромысле несет. Ни капли привлекательности. А рот? Под подбородком складка. Профиль пеликаний, зоб не зоб, но уродливо. Ключицы красивые. Грудь достаточно молодая, потому что не затасканная, так она всегда думала, но как ее покажешь отдельно от всего остального?
Странная, но в то же время и обычная женская судьба. Алена люто ненавидела падчерицу, кричала, подсовывала заветренные остатки салата, скисшее молоко, обряжала в коротковатые тесные брючки, денег не было ни копейки ни на мороженое, ни хоть на беляш. Подрабатывала Майя как могла. Посылки разносила после школы, взяли ее после восьмого класса, пожалели. Это Сонька стремглав взлетела в журналистику, и не без Майиного участия. На ее и отцовы деньги принарядилась, поступила легко, сразу пошла на фотокора. Вокруг мальчики, девочки, их родители, приличные семьи. Сразу какие-то имена зацепила – в том доме, в этом… Завращалась.
У Майи только шваль, только мусор. Первые мужчины – сослуживцы. Пошла сначала секретарем в транспортную контору, пока училась на курсах, начальник заглядывался, пару раз тискал, но как-то хотел наскочить в кабинете, да не смог, не случилось у него. Потом водитель – всё цветы возил и какие-то духи из перехода. Молодой совсем, белобрысый, безусый и безбородый. Майя на голову была выше его, дразнила «сынкой». На курсах кадровиков очень нравился ей преподаватель марксизма-ленинизма Павел Семеныч, она ждала его после занятий, приставала с глупыми вопросами, но он женат был и на сторону не ходил. Пренебрег. Да и нетрудно было – корова!
В институте радиоэлектроники и автоматики, куда ее распределили сразу после курсов, – помнила хорошо, что вышла на работу летом, преподаватели были в отпусках, студенты на каникулах, гуляли только кадровики да администраторы по гулким пустым коридорам, – был инженер, калечный, без правой кисти, вдовец, много старше ее, и случилось между ними. Он подвозил ее после работы домой на своем старом синем жигуленке, оборудованном множеством загадочных приборов. Читал ей стихи – Вознесенского, Ахмадулину, заводил бардовские песни: «Давайте говорить, друг другом восхищаться», – однажды зимой по морозцу да снежку повез ее в Загорск полюбоваться, – но там «жигуль» встал, Майя стояла два часа на морозе, пока мужики жигуль этот дергали да прикуривали. Ездили еще в Звенигород по весне, в Савви-но-Сторожевский монастырь, глядели с горы на Москва-реку и поля за ней, дышали паром на далекий горизонт. Она все боялась, что «жигуль» опять не заведется: хоть и весна, а ноги-то мокрые, не настоишься. В машине же он как-то виновато пощупал ее за коленку рукой без кисти, и она обняла его, придвинулась, и они поехали к нему, а вскоре и поженились. Без помпы, без фаты – посидели в отделе с девчонками, выпили и разошлись. Второй брак, так чего гулять, как в молодости? У него осталась однокомнатная на «Красносельской», в пятиэтажке, но своя, и вот принялись они ее с жаром обустраивать, обои лепить, рамы красить. Сонька все фыркала на него: «прогорклый, как старое пиво», – а Майе он казался надежным и не очень приставучим. Неплохо жили, ладили, пока не помер он внезапно от инфаркта. Ей было тридцать два, ему сорок восемь. «Ну все, больше рыпаться не буду», – твердо решила про себя Майя.
Когда Сонька укатила в Чехословакию со своим первым – он фотокор ТАСС, она его жена, поженились еще на последнем курсе, – Майя переехала к отцу. И жили как раньше, пока однажды не нашла она его уже окоченевшим, на полу, лицом в разбитые очки.
Одной ей понравилось. Алену, повадившуюся десятки стрелять, отшила крепко – жизнь научила. Прибралась. На рынке купила фиалок и герани и зажила. Дом, работа. Иногда девичьи посиделки. Книжки, телевизор.
Пока не появилась Вика. Контролерша-мальчик: форма, стрижка, козырек – оттого, говорит, и пошла в метрополитен, чтобы вот так сидеть и глазеть на эскалаторы, полные людей. Быть мальчиком у всех на виду. С особенностями девушка. Дежурила на «Войковской», рядом с которой была тогда Майина квартира. Майя каждый день ездила туда-сюда мимо нее, задавалась вопросами, та (тот) улыбнулась ей пару раз, потом кивнула, потом вышла из стакана и поднялась на эскалаторе вместе с ней. Прошлись, познакомились. Чудно все, но бывает же.
Все в Вике было мужское: и повадка, и голос – низкий, пацанский, – и ужимки, да она еще и утрировала: курила, держа сигарету между большим и указательным, с особенным нажимом пропускала даму вперед, подарки нелепые делала. И жалко девку – быть ошибкой природы, – и смешно от всего. Тощая как цыпленок, родители вроде приличные, так ушла от них, снимает комнату. Учиться – нет, любую профессию осваивать – нет, будет зарабатывать по-мужски, купит машину – станет шоферить, раньше грузила, сторожила. Английский хорошо знает, с детства были репетиторы, иногда что-то переводит, знакомые заказывают, сидит по ночам. Деньги вроде на жизнь собираются. Подружились.
А чего бояться-то: хера ведь нет. Честная, несчастная, так чего ж гнать? Варила ей супы протертые – от гастрита, Вика заходила вечером, освобождалась в девять, Майя кивала ей с эскалатора и ждала к ужину. И дом не пустой, и ест-нахваливает. Приятно. Попросилась ночевать – так чего ж, вон комната стоит пустая, так нехай. Видела ее утром в майке и трусах – все мужское на ней: трусы черные удлиненные, майка – как пацаны носят. Форму надевает как солдатик, одергивает подол. Призналась даже, что бреет волосы на руках, чтобы росли лучше и были пожестче, что драться любит, однажды видела у метро, как двое мужиков к девушке пристали, так она влезла, руку ей сломали, зуб выбили. С гордостью рассказывала.
Выпили однажды под субботу на Восьмое марта, Вика принесла подарки, включила музыку, пригласила на танец. Майе едва доставала до плеча – ну какой танец! Так, трагедия. Слезы. Обморок. Разыграла, наверное. Наутро признания: о господи, господи!.. Майя молчала, вся сила из нее вышла, а та металась весь день и ушла под вечер якобы на вокзал жить, пока Майя не придет за ней. Майя не пришла, забрезгливилась, все сломалось внутри. Дурная история. С противнинкой.