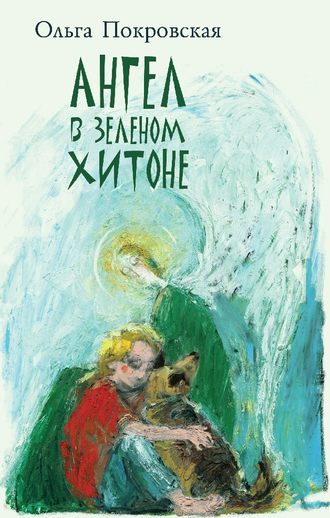
Полная версия
Ангел в зелёном хитоне (сборник)
Когда гроза, разметав все молнии, взяла передышку, Валера спустился к почтовым ящикам. Там за ничейной, замечательно открывавшейся Валериным ключом дверцей у взломщика хранились сигареты. Он выкладывал их вечером, а утром доставал – удобно!
Докурив в торце дома, возле входа в подвал, недосягаемый для взгляда из окон, Валера полез было за жвачкой – отбить сигаретный дух и вдруг, усмехнувшись, вынул руку из кармана. Подростковый бунт – говорить, что думаешь, и поступать, как решил, – обуял великовозрастного Валеру.
– Да ладно тебе, Светуль, не дуйся! – за обедом вступился за зятя Павел Адамович. – Бросит он – вот посмотришь.
Светка сидела к Валере спиной и кормила Пашку супчиком. Интересные они! Не дуйся! А что ей делать, если муж на глазах отбивается от рук? Теперь и курить ещё вздумал!
– Валера, ну скажи ты ей! Ты ж не будешь больше – вон, по глазам вижу! – подмигнул зятю Радомский.
– Валерочка, ты обещаешь? Ты бросишь, правда? – обернувшись, с надеждой спросила Светка.
Сладость близкого примирения соблазнила Валеру. Вот сейчас он спасётся из холодного, дымного своего одиночества – его простят, покормят и приютят в родной норе ещё лет на тридцать.
– Конечно брошу! – с готовностью подтвердил Валера, но вдруг очнулся и радостно, свеже прибавил: – Но скорее всего – нет!
8. Чай в саду
После повторного, тоже не слишком удавшегося обсуждения вопроса о ремонте маминой крыши Валера взял из кабинета Павла Адамовича саквояжик с инструментами и, надев ветровку, сказал:
– Поеду к Йозефу. Поправлю, что в тот раз накосячил.
– Ты договорился с ним? Он тебе заплатит? – насторожилась Светка.
– За что? За мою халтуру? – спокойно сказал Валера. – И вот что. Хоть бы даже я отремонтировал ему весь дом или даже построил новый – денег с него я не возьму. Никогда.
– Валерочка, ты нас больше не любишь? – тихо спросила Светка. – Пашенька и Наташенька – это уже не твоё? Не успел вернуться – сразу снова гулять?
Валера молчал. Он чувствовал себя юнцом, который, безусловно, любит родителей, но больше не может терпеть их власть. Не может видеть эти жестокие в своей правоте лица. Почему вы решили, что всё, чем я являюсь, – ваша неоспоримая собственность?
Тут молния мысли исказила Светкино лицо.
– Но машину ты больше не получишь! Подумай сначала над своим поведением! – крикнула она и, стремительно сцапав с подзеркального столика ключи, унеслась в детскую.
Павел Адамович спустился с Валерой во двор и, едва поспевая за его решительным шагом, завёл дипломатическую речь.
– Конечно, с крышей она не права. А что ключи взяла – и вообще свинство. Но ты пойми, она за детей боится – как бы их отца куда не занесло. Материнские инстинкты!
– А про то, что она вечная должница Йозефа, – забыла? – холодно возразил Валера.
– Конечно, забыла – куда ей помнить! Двое карапузов! – оправдывался за Светку Павел Адамович. – Ладно!.. – вздохнул он, замедлив ход, и отстал. – Йозефу там привет!..
По весенней улице Валера дошёл до станции, с улыбкой – как бутылку дорогого шампанского – купил билет, и уже через минуту на ветреную платформу прибыла электричка. Зелёный шум берёз колыхался в окне, у которого сел Валера. «Боже мой! Какая свобода! – думал он, набирая в грудь нечистого вагонного воздуха. – Доеду – сразу же покурю! Две!»
Никогда ещё Валера не вёл себя столь опрометчиво. Подумать только! Ехать к пристыдившему и выгнавшему его человеку без звонка, со стопроцентной гарантией получить ушат презрения на свою голову. Но отчего-то Валере вспомнилась дерзость Йозефа, рискнувшего предложить миру неслыханного доселе Баха. «Я трус и раб, но я тоже хочу так!» – наивно подумал он.
У ворот садового товарищества Валера остановился и, закрыв глаза, кожей, нюхом и слухом впитал в себя майский лес. Реки больше не было – дорога выглядела вполне проходимой. Оценив обстановку, он собрался с мужеством и позвонил.
– Йозеф Германович, это Валерий. Я подумал, что ещё можно сделать с вашим фа-диезом. Хотел бы попробовать. Вот стою тут у вас, у сторожки. Можно к вам подойти?
Ужасные Валерины ожидания не оправдались. Йозеф встретил его на удивление приветливо, можно даже сказать – обрадовался. К пианино, правда, не подпустил, зато велел поискать по участку расшвырянные наводнением садовые кресла. Сам же ушёл готовить чай.
Даже не смахнув нападавшие ветки, он поставил на стол в саду две старинные чашки дрезденского фарфора со свечными наплывами золота и такой же чайничек без крышки. Через отверстие было видно, как с каждой секундой всё шире разворачиваются в нём тёмно-зелёные листья заварки.
Валера, слегка ошалевший от внезапного гостеприимства мастера, улыбался. Сквозь голые, не проснувшиеся ещё ветки дуба было видно, как солнце и облака бегут наперегонки, по очереди обгоняя друг друга. Странное дело – Валере казалось, что он один под этим небом, на тихом свидании с самим собой. Облик Йозефа был так же мало различим, как в первую встречу. Валера словно бы вёл беседу с голосом за кадром, в лучшем случае – с пламенем свечки.
Из всего их неоправданно долгого, забуксовавшего в вечности чаепития Валера уяснил себе только, что пианино выздоровело и Йозеф счастлив. О существенном заговорили под конец. На благоговейный вопрос Валеры – чем теперь он занимается? – Йозеф поворошил обломком дубовой ветки заварку в чайнике и тихо проговорил: «Я думаю, его творчество не закончилось со смертью. Мне хотелось бы вслушаться в продолжение…»
По прогнившим от долгой воды ступеням они поднялись в дом, и Йозеф в ответ на Валерину просьбу без возражений, пожалуй что и с охотой, провёл своего гостя дорогой Седьмой партиты, той, которую никогда не сочинял Бах.
Не какая-нибудь ворованная, добытая тайком, а совершенно легальная прогулка по душе другого человека, к тому же в его собственном сопровождении, опьянила Валеру. На радостях он поборолся с необратимо разбухшей дверью и, подсняв ножом излишек дерева снизу, победил. Затем перекантовал на место беседку, собрал по участку разбросанные половодьем лейки, лопаты, корзинки, без приглашения хлебнул ещё чайку и, восторженно поблагодарив хозяина, уехал.
Глава вторая
9. Уборка
Земля давно впитала воду. Правда, в особо низких местах ещё почавкивал торф, но островное житьё подошло к концу. По просохшей дороге к Йозефу потянулись гости. Так бывало каждый год. К маю вдруг обнаруживалось, что о нём помнят, хотят узнать его мнение по тому или иному творческому вопросу, предложить сотрудничество или по старой дружбе напроситься на домашний клавирабенд. Гости эти, странные всё люди, прощали ему за музыку и отстранённую мину, и отсутствие мало-мальской хлебосольности.
Йозеф и сам не смог бы объяснить причину своего холода. Видя искренне расположенного к себе человека, он словно бы чуял шанс на новую жизнь – возможность вырваться из одиночной камеры, совершал усилие и тут же вспоминал, что стена нерастворима. Выходило, что гости неизменно приносили ему в подарок сгустившуюся темноту одиночества.
К тому же этой весной вся сила души Йозефа была направлена на возвращение совсем иных гостей. Но нет, всё не было и не было Отки, не вбегала вместе с ней побродить по комнате да подёргать его за локоть весёлая девочка. Даже старый друг Марианна забыла его.
Склоняясь над клавишами, Йозеф заговаривал музыку, соединялся с ней всей своей остро концентрированной энергией. Свидетелю, ненароком увидевшему его в эти минуты, стало бы страшно, так мало он был похож на человека – больше то на пламя, то на стелящийся туман.
И вот – началось! На третий день мая, в разгар игры, когда Йозеф, почти ничком лёжа на клавишах, пробирался по солнечной глубине фуги, в него вошёл трепет. Он почувствовал в позвоночнике необъяснимый холодок радости. Боясь поверить, опустил руки и сидел какое-то время не шевелясь, прижав ладони к коленям – словно из-под них могла выпорхнуть чудом пойманная благодать.
Ничего не происходило. Колыхался край занавески, и четыре высохших стебля в хрустальном стакане, бывшие когда-то подснежниками, освещались часто моргающим солнцем. Воздух из форточки, смешавший голоса детей и птиц, был шумен, как лето в приморском городе.
Йозеф встал и, зажав ладонью грудь, словно в ней обнаружилась вдруг рана, пошёл на кухню. Налил в чашку кипячёной, с осадком, воды и, зажмурившись, глотнул. Выглянул в безлистый ещё сад, прислушался: тут ли радость? О да!
Беспорядочно, под яблонями и между запущенных грядок проросли тюльпаны. Йозеф взглянул на толстые, едва прорезавшиеся ростки будущих цветов, до головокружения наполнил лёгкие сырым воздухом и понял: пора готовиться к приходу «своих».
Весь остаток дня в доме, полном неверного весеннего света, он трепетал от предчувствия, как герои странного писателя Грина, а когда стало смеркаться, сел играть. И почти сразу в сердце скрипнули половицы. Слава богу! В конце концов, он ведь был достаточно упрям и отважен, он заслужил!
А на следующий день безо всякого повода – не во сне, а наяву – явился этот халтурщик, зять Радомского. Нагородил извинений и слов любви. Йозеф слушал рассеянно, но в целом явление Валеры неплохо вписалось в его нынешнюю радость. В какой-то момент Йозеф почувствовал желание распорядиться собой так же, как распоряжаются собой солнце, вода и воздух. Надо – бери. Он пошёл в дом и сыграл смешному Валере Седьмую партиту Баха.
И вот – кто бы мог подумать! – на другой вечер Валера пришёл опять. Незримо, вместе с Откой и девочкой. Пришла и боевая подруга, скрипачка Марианна, но пока не заходила в сердце – слушала издалека…
Число паломников в область Баха росло с каждым днём. Купол любящего внимания обнял Йозефа, и слышались уже иноязычные голоса. Йозеф с удивлением констатировал, что, оказывается, понимает с десяток европейских языков.
Это было похоже на то, как если бы очень долго почтовый ящик Йозефа был «вне зоны действия сети» и вдруг, в один солнечный день, стал доступен – так что все пришедшие за годы послания в одночасье засыпали его, ослепили и оглушили любовью.
С тех пор каждый день он забирал свою «группу» и вёл по предписанному маршруту – в целебную область Баха. Это была его служба – армейская или монашеская, скромный труд по сопровождению искренних душ.
Поход не всегда бывал успешен. Случалось, сердце, как загнанный мотор, который заставили взять скорость, не предусмотренную конструкцией, вдруг замедлялось. Посетители таяли, и сталкер полумёртвым отползал на диванчик. Здесь, упав лицом к потолку, он отдыхал – при этом совсем не чувствовал себя, а как бы являлся воздушным пространством, в котором колышется музыка. Это отсутствие собственного «я» наполняло душу беспричинным блаженством. Деревянный, сто раз протёкший потолок возвращал его к реальности – Йозеф цеплялся взглядом за какой-нибудь гвоздик, за тёмный развод или засохшего мотылька – и приходил в себя. Надо было глотнуть воздуху, что-нибудь поесть и отоспаться, чтобы на следующий день снова начать дорогу.
Однажды, играя прелюдию о снятии с креста, Йозеф споткнулся о вопрос. Его задала Отка. «Разве мы идём по Иудее?» – удивилась она. Йозеф огляделся: земля, по которой он вёл своих паломников, не была выжженной. Над ней вился ветер буковых рощ, цвели анемоны. Кантор церкви Святого Фомы не любил изнуряющую жару и поместил возлюбленного Христа в прохладу лютеранского храма.
В удачные дни Томаскирхе[4] становилась кульминацией их похода. Бывало, краем глаза путникам удавалось увидеть Кантора, а однажды Йозеф со товарищи стали свидетелями расправы. Кантор огрел тростью одного из своих прославленных учеников – за чрезмерное пристрастие к нон легато[5]. Наказанный горбился и хихикал – ему вовсе не было обидно. Он знал, что величайший проучивает его любя.
В день, когда Отка спросила про Иудею, их путь задался. Пройдя дорогой фуги, в самом её финале – там, где пауза переходит в вечность, Йозеф со своей паствой остановился при входе в церковь, как экскурсовод с группой туристов. Дальше каждый сам нёс свою молитву.
Паломники растворились, а проводник ещё долго разглядывал белые стены Томаскирхе, как чётки, перебирая в пальцах фугу. Понемногу через стены проступило звёздное небо. Йозеф любил космические ветра, ему было уютно в них и не холодно. Никого не стесняясь и не боясь, он нырнул в свою колыбель – почти лёг на клавиши и зашептал, что было на сердце. Звуки отвечали ему. Это был восхитительный разговор о любви – записанный невидимыми чернилами поверх строгой музыки Баха.
Кантор возник на хорах внезапно и, скатившись по лестнице, грудью врезался в ряды полифонии. Йозеф почувствовал страшный удар и уронил руки. Осколки фуги посыпались на него мелким градом. Он не слышал ушами громовой голос, но порыв был внятен без слов, как внятна бывает тоска, чувство стыда или вины.
«Ты хотя бы помнишь, где ты находишься? – негодовал Кантор. – В доме Божьем, балда! Хватит ползать по клавишам! Держи себя строго! Как ты смеешь сопровождать молящихся, если даже благопристойный вид тебе не по силам! Развёл свинарник!» И на прощание – последним всполохом взгляда – швырнул в душу ученика уголёк.
Йозеф огляделся: старое пианино, диванчик с деревянными подлокотниками, летний вечер. Через окно было видно: между елью и скромным соседским домом уже засветилась низкая звезда.
Несмотря на мучительное жжение в сердце, Йозефу было сладостно от полученного тычка. Он вышел на крыльцо и задумался: что имелось в виду под «свинарником»? Самовольно расшатанный ритм? Пыль в углах клавиатуры? Неисполненное предназначение? А «молящиеся» – это кто же, Отка?
Пока Йозеф играл, на соседний участок приехал дачник, мужчина лет сорока, лысоватый, хозяйственный, с простодушной какой-то осанкой. Йозеф увидел его с крыльца – через изгородь смородиновых кустов, сплоить завешенных зелёными бусинами.
– А, Йозеф, приветствую! Вы уж тут? Как пережили затопление? – спросил он, бодро улыбаясь. – В дом-то не зашла вода? У нас вроде тьфу-тьфу, на третьей ступеньке – и вниз пошла. В следующие выходные своих привезу!
Слушая его, Йозеф вспомнил – это был тот самый соседский мальчик, подросток, который помчался на велосипеде на станцию – вызвать «скорую», в ночь, когда умерла бабушка. Как бишь его звали? Йозеф никогда не интересовался соседскими именами, как, впрочем, и всем остальным, что не касалось музыки. Может быть, в этом и заключался «свинарник», о котором говорил Бах?
На следующее утро Йозеф первым делом прислушался – как там вчерашний лейпцигский уголёк? Брошенная Кантором головешка дымилась по-прежнему, даже посверкивала. Йозеф пошёл на кухню, умылся и выпил воды. Подождал – не утихнет ли жжение – и, вздохнув, принялся наводить порядок.
Бесконечно вслушиваясь в целебные проклятия Кантора, он вымыл все полы, стены и окна. Беспрецедентная чистота воцарилась в дачном домике. Чтобы насладиться ею, Йозеф передвинул диван и лёг лицом к распахнутому окну. Снаружи чистота была огромна – она простиралась из комнаты через дачные огороды – в небо. Но вот внутри, стоило перешагнуть через пространство музыки вглубь, начинались залежи земной жизни.
Чуя, что и там придётся устроить уборку, Йозеф вгляделся в материю прошлого – потускневший млечный путь. Если стереть пыль, может быть, и высветились бы живые звёзды – товарищество, дружеское расположение, даже любовь. Но ничего – нет, ничего не удалось сшить из этой роскоши. Как человек, с детских лет отданный в «монастырь», Йозеф не обладал никакой «частной собственностью» – ни временем, ни свободой, ни даже правом распорядиться сердцем. Ему было нечем ответить на добрые чувства любивших его людей. Правда, находились альтруисты, готовые любить ни за что. Вот Марианна… или некоторые другие братья по музыке, милые и доверчивые, полагавшие Йозефа таким же доверчивым и милым, с апельсиновой рощей во взгляде. Порвав со старой жизнью, Йозеф прятался от этих любящих особенно тщательно и теперь испытал внезапную растерянность: почему же они не разыскали его, а, смирившись, отстали?
До самого вечера он с нежностью разбирал звёздный хлам и в какой-то момент уловил, что жжение брошенного Кантором уголька погасло. Запахло летней ночью – землёй и травой, густым цветением сирени. По торфяной, пружинящей под ногами земле Йозеф подошёл к смородиновому забору. В окне соседского дома помаргивал и бормотал телевизор. Сосед смотрел футбол. Йозеф тоже посмотрел немного через стекло. Движения игроков напомнили ему игранную в детстве пьесу Кабалевского. Рассмеялся от внезапного наката радости и пошёл спать.
10. Визит
С тех пор как по велению Кантора Йозеф навёл чистоту, его перевели на иную должность. Он больше не был экскурсоводом по мистической земле прелюдий и фуг. Отныне его делом стало сопровождение молитвы. Кантор поделился с ним частью своих земных обязанностей. Йозеф воспринял это как повышение. По-новому заскрипели отмытые досочки сердца. Радостно, мягко поплыл кораблик.
Поначалу молитвы, вплетённые в течение музыки, сбивали Йозефа с толку – так непривычно было ему узнать, о чём в действительности думают его близкие. Отка просила о том, чтобы уже сейчас, без разлук и смертей, настала вечная жизнь. И ещё о том, чтобы ангелы находили время позаботиться о собаках, у которых нет хозяев. Она занималась собачьим приютом – вот в чём дело!
Валера молился, чтобы мама простила его, чтобы детство простило его, чтобы его простила музыка – это было сплошное покаяние без единого пожелания счастья. Вот бы Йозеф не подумал, глядя на румяную и приветливую физиономию горе-настройщика!
Марианна молилась о здоровье для своей старой мамы, о дочке, уехавшей с мужем в Америку, и о том, чтобы – Господи! – как-нибудь так сложилось – и они с Йозефом провели бы старость по соседству! Йозеф чуть не упал со стула, расслышав последнее.
Что говорить – он был счастлив неосознанным и совершенным счастьем сродни тому, какое случается в детстве. Он больше не был один – это раз. Два – в саду на заросших холмиках грядок начала поспевать клубника! Йозеф никогда ещё не задерживался на даче так глубоко в лето. Звонкие голоса детей и радио на соседних дачах бывали настолько мучительны для его слуха, что он сбегал. Но в этом году каникулярный шум не раздражал его.
В день летнего солнцестояния, почуяв волшебную силу даты, Йозеф впервые вышел за калитку и с любопытством прислушался, как на другом конце улицы правление садового товарищества обсуждает вопрос укладки асфальта. Грозовой шум сходки восхитил его своей раскатистой, подобной горному эху фактурой.
Ближе к ночи Йозеф по обычаю закрыл окна и сел за пианино. К середине первой прелюдии паломники собрались, но что-то было не так между ними. Йозеф вгляделся и увидел, что Отка плачет.
Иногда она подносила руку с утюгом к лицу и тыльной стороной ладони утирала слёзы. Сквозь жёсткий и ветреный, с льдистой крошкой дождь её бессильного отчаяния Йозеф различил жалобу: подожгли загончик в лесу!
Погибла собака. «Ну да – она ведь молится за животных…» – думал Йозеф, рассеянно перешагивая из прелюдии в фугу, – и вдруг ощутил холодок пустоты. Он поспешно обвёл мыслью собравшихся: были Валера и Марианна и ещё десяток видимых не столь четко, но всё же знакомых Йозефу лиц. Но Отки он больше не различал – она выпала из пространства музыки.
Йозеф подумал, что она отлучилась на время – повесить в шкаф выглаженную рубашку, и решил дождаться её возвращения. Это был самый долгий клавирабенд из всех, что когда-либо ему доводилось отыгрывать. Под утро он закрыл пианино и вышел в зелёный сумрак июня. Ещё не успело стемнеть, а уже светало.
Тревожная мысль пришла ему в голову: раз он видел в жизни Марианну и Валеру, значит, и Отка есть на земле. Может быть, нужно выйти из цветущего, огороженного забором склепа на волю и с ветром перенестись в Москву? Людям свойственно помогать друг другу. Вероятно, это правило относится и к нему.
Мысль о поисках Отки была столь новой и беспокойной, что Йозеф даже не попытался уснуть. Он встретил солнце, подёргал траву на заросших грядках с клубникой. Постоял у смородинных кустов, глядя, как дочка соседа играет в саду.
После полудня почувствовал голод и вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня – только глотал воду прямо из кувшина. На кухне нашлась прошлогодняя гречка. Йозеф поболтал её в миске с водой и горстями переложил в термос. На ладони налипли зёрна. Он разглядывал их с пристальным интересом, пока не вспомнил, что кашу надо залить кипятком.
Когда чайник вскипел и крупа была заварена, Йозеф вышел в сад и сел в тенёк – ждать, пока приготовится гречка. Это был лишь предлог – на самом деле он дожидался вечера. Может быть, с наступлением времени музыки Отка вернётся?
За этим занятием, а точнее сказать, бездельем, и застал его Радомский. Он звонил вчера, но Йозеф, поглощённый исчезновением Отки, забыл об их разговоре и теперь был удивлён. А впрочем, обрадовался! Ему хотелось видеть живого человека.
Маленький круглый Павел Адамович, заранее вытянув ладонь, бежал по дорожке навстречу хозяину. В заросшем саду цвёл шиповник и огромный обсыпной жасмин, а Йозеф, встречавший настройщика у крыльца, так и остался после зимы – сломанной тёмной веткой. Но это лишь издали. Приглядевшись, Радомский увидел, что клиент в порядке – щурится на жгучее солнце и подзагоревшее лицо проявлено в мир более, чем когда-либо.
– Опять зверей приваживаешь! – воскликнул Павел Адамович, споткнувшись о блюдечко с молоком, притулившееся у ступенек. – Кто у тебя тут? – и обмахнул обрызганную брючину.
Йозеф слегка дёрнул плечами.
– Не знаю. Иногда слышу ночью… Думаю, ёжик. Потом ещё утром шелестнёт. Кошка… Тут много всех, – и вдруг, широко распахнув глаза воскликнул: – Паша, заяц ещё приходил! Вот тут стоял, где ты. Разговаривал..
– С тобой, что ли? – фыркнул Радомский.
Йозеф поднял блюдце и переставил поближе к фундаменту – чтобы гость больше не спотыкался.
Они с Радомским не были друзьями. У Йозефа и вообще не водилось друзей из числа «живых» – он более доверял ушедшим и призракам. Он решил, что не скажет Павлу Адамовичу о счастливом рецидиве болезни, случившемся с ним этой весной. А как бы тот удивился, узнав, что безумному Йозефу является теперь его зять!
Павлу Адамовичу тоже было что скрыть от Йозефа. Он ехал к своему давнему клиенту по делу, о котором не доложил напрямик, а решил выяснять околицей. Пару дней назад в откровенном разговоре со Светкой Радомский укрепился в подозрении: его дорогой зять регулярно общается с Йозефом. Учитывая человеконенавистничество и психопатию последнего, это казалось невероятным. Тем не менее влияние больного музыканта на добродушного Валерочку было столь очевидным, что бездействовать дальше Павел Адамович счёл непростительным.
Йозеф не умел шутить, хитрить и врать. Раскрутить его на правду было куда проще, чем настроить его пианино. Для пущей доверительности Радомский привёз с собой душистый хлеб и тонкое вино. Они ещё не успели допить по бокалу, а Павел Адамович уже спрашивал напрямик: не возобновились ли приходы тайных гостей? Йозеф отвернулся к жасмину, желая проявить сдержанность, но не выдержал и улыбнулся. Скоро выяснилось и насчёт виртуальных визитов Валеры.
– Тоже с утюгом, между прочим! – радостно уточнил Йозеф. – Они все всё время что-то гладят, просто какая-то мания! Как будто нельзя просто сесть и послушать.
– Йозеф… – сокрушённо проговорил Радомский и покачал головой. – Йозеф, но ведь ты сохраняешь критическое отношение, не правда ли? Ведь ты понимаешь, что это – фантазия? Игра воображения?
Сперва аккуратно, намёками, затем настойчивей Павел Адамович принялся убеждать Йозефа лечь в клинику «отдохнуть». Ну ладно, не хочет в клинику – пусть отправляется к себе в Крым. Солнце и море укрепят нервы.
Монолог Радомского затянулся. В промежутке поставили чайник. На серебряном, тронутом патиной бабушкином подносе появились чашки с лёгким слоем пыли на ободке, сахарница и молочник. Молока, правда, не нашлось. Йозеф ткнул в кувшинчик ветку жасмина.
Радомский, довольный тем, что ему не противоречат, излагал Йозефу свою теорию двух полюсов. Она заключалась в том, что семейных людей, то есть обывателей, и жрецов искусства разделяет бездна. Человек обычный, скажем, Валера, через эту бездну не перемахнёт – упадёт и сгорит. Вот всё, чего Йозеф добьётся своим безответственным миссионерством.
Йозеф слушал Павла Адамовича не возражая. «В конце концов, это всё от того, что ты один. Творчество, галлюцинации, седьмая партита – всё это, как ни крути, вопрос одиночества…» – задушевно вещал Радомский и, кажется, собрался уже углубиться в психологию человеческих отношений, но тут Йозеф сделал резкий вдох и на выдохе швырнул в него сахарницей.
Заперев за взвизгивающим Радомским калитку, Йозеф вошёл в дом, закрыл окна, пианино задвинул креслами и остаток дня пролежал на диване, скрючившись, чувствуя в себе сердце предка, погибшего под Веймаром в лагере. Постепенно видение преобразилось – он стал собакой из Откиного приюта, закольцованной в языках пламени. Любящие доброжелатели, оставшиеся за стеной огня, были бессмысленны, как ливень на другом полушарии.




