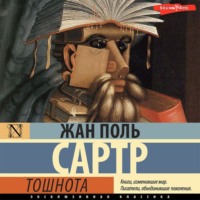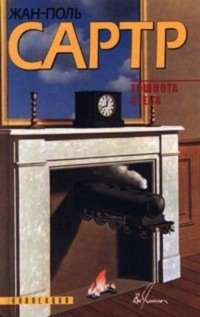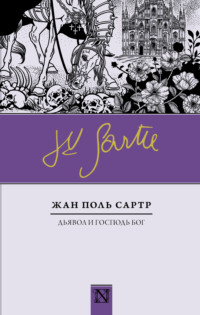Полная версия
Возраст зрелости
– Привет, – сказал Матье. – А я уж думал, что ты умер.
Брюне засмеялся, не отвечая.
– Садитесь рядом со мной, – с жадностью сказала Сара.
Она собиралась оказать ему услугу и знала это; он стал ее собственностью. Матье сел. Малыш Пабло играл под столом в кубики.
– А где Гомес? – спросил Матье.
– Всегда одно и то же. Он в Барселоне, – сказала Сара.
– Вы получили от него какие-нибудь вести?
– На прошлой неделе. Расписывает свои подвиги, – с иронией ответила Сара.
Глаза Брюне блеснули:
– Знаешь, он уже полковник.
Полковник. Матье подумал о вчерашнем человеке, и сердце у него сжалось. Вот и Гомес уехал. Однажды он узнал из «Пари-суар» о падении Ируна и долго прохаживался по мастерской, запустив пальцы в черную шевелюру. Потом вышел с непокрытой головой, в одном пиджаке купить сигарет в кафе «Дом». И не вернулся. Комната осталась в том же состоянии, в каком он ее покинул: на мольберте – незаконченное полотно, на столе, посреди пузырьков с кислотой, – медная дошечка с незаконченной гравировкой. Картина и гравюра изображали миссис Стимпсон. На картине она была обнаженной. Матье мысленно увидел ее, пьяную и великолепную, хрипло поющую в объятиях Гомеса. Он подумал: «А все-таки по отношению к Саре он был подлецом».
– Вам открыл министр? – весело спросила Сара. Она не хотела говорить о Гомесе. Она ему простила все: его измены, его отлучки, его жестокость. Но только не это. Не его отъезд в Испанию: он отправился убивать людей, сейчас он убивал людей. Для Сары человеческая жизнь была священна.
– Какой министр? – удивился Матье.
– Мышонок с красными ушками – это министр, – сказала Сара с наивной гордостью. – Он был членом социалистического правительства в Мюнхене в двадцать втором году. А теперь подыхает с голоду.
– И вы, естественно, его приютили?
Сара засмеялась.
– Он пришел ко мне с чемоданом. Нет, серьезно, – сказала она, – ему некуда было идти. Его выгнали из гостиницы, так как ему нечем было платить.
Матье посчитал на пальцах.
– С Аней, Лопесом и Санти у вас получается четыре пансионера, – сказал он.
– Аня скоро уйдет, – виновато сказала Сара. – Она нашла работу.
– Это безумие, – вмешался Брюне.
Матье вздрогнул и повернулся к нему. Негодование Брюне было тяжелым и спокойным, с самым что ни на есть крестьянским гневом он глянул на Сару и повторил:
– Это безумие.
– Что? Что безумие?
– Ах! – воскликнула Сара, кладя ладонь на руку Матье. – Придите мне на помощь, мой дорогой Матье.
– Но о чем речь?
– Матье это неинтересно, – сказал Саре с недовольным видом Брюне.
Но она его больше не слушала.
– Он хочет, чтобы я выставила моего министра за дверь, – сказала она жалобно.
– Выставила?
– Он говорит, что я совершаю преступление, оставляя его у себя.
– Сара преувеличивает, – примирительно сказал Брюне.
Он повернулся к Матье и с неохотой объяснил:
– Дело в том, что у нас скверные сведения об этом малом. Кажется, полгода назад он бродил по коридорам германского посольства. Не нужно быть большим хитрецом, чтобы догадаться, что может там проворачивать еврейский эмигрант.
– У вас нет доказательств! – сказала Сара.
– Это верно. У нас нет доказательств. Имей мы их, его бы здесь уже не было. Но даже если есть всего лишь сомнения, со стороны Сары глупо и опасно давать ему приют.
– Но почему? Почему? – страстно вскричала Сара.
– Сара, – ласково сказал Брюне, – вы взорвали бы весь Париж, чтоб избавить от неприятностей своих протеже.
Сара слабо улыбнулась:
– Ну, не весь Париж, но я, конечно, не стану жертвовать Веймюллером ради ваших партийных счетов. Партия – это слишком абстрактно.
– Именно это я и говорил, – сказал Брюне.
Сара энергично затрясла головой. Она покраснела, ее большие зеленые глаза увлажнились.
– Мой маленький министр, – возмущенно сказала она. – Вы его видели, Матье. Да он и мухи не обидит!
Спокойствие Брюне было безмерным. Это было спокойствие моря. В нем было одновременно что-то успокаивающее и раздражающее. Он никогда не был особью, он жил жизнью толпы: медленной, молчаливой, шумной. Брюне пояснил:
– Гомес нам иногда присылает курьеров. Они приезжают сюда, и мы встречаемся с ними у Сары; ты, конечно, догадываешься, что сообщения у них секретные. Разве здесь место этому типу, который прослыл шпиком?
Матье не ответил. Брюне употребил вопросительную форму, но это был ораторский прием: он не спрашивал его мнения; Брюне давно уже перестал интересоваться мнением Матье о чем бы то ни было.
– Матье, я вас призываю нас рассудить: если я выгоню Веймюллера, он бросится в Сену. Разве можно, – добавила она с отчаянием, – толкать человека на самоубийство из-за одного только подозрения?
Сара выпрямилась, безобразная и сияющая. Она заставила Матье испытать смутное ощущение соучастия, которое испытывают к пострадавшим от несчастного случая, к задавленным, к беднягам, покрытым язвами и нарывами.
– Это серьезно? – спросил он. – Он бросится в Сену?
– Да нет, – возразил Брюне. – Он пойдет в немецкое посольство и окончательно запродастся.
– Это одно и то же, – сказал Матье. – Как бы там ни было, он пропал.
Брюне пожал плечами.
– Согласен, – сказал он равнодушно.
– Вы слышите, Матье? – воскликнула Сара, с волнением глядя на него. – Итак? Кто прав? Скажите же что-нибудь.
Матье было нечего сказать. Брюне не спрашивал его мнения, ему не нужно было мнение буржуа, задрипанного интеллигентика, сторожевого пса капитализма. «Он меня выслушает с ледяной вежливостью, но поколеблется не больше, чем скала, он будет судить обо мне по тому, что я скажу, вот и все». Матье не хотел, чтобы Брюне как бы то ни было судил о нем. Уже давно ни один из них из принципа не судил другого. «Дружба не для того, чтобы осуждать, – говорил тогда Брюне. – Она для того, чтобы доверять». Может, он говорит это и сейчас, но теперь уже он думает о своих товарищах по партии.
– Матье! – воззвала Сара.
Брюне наклонился к ней и притронулся к ее колену.
– Послушайте, Сара, – мягко сказал он. – Я люблю Матье и очень ценю его ум. Если бы речь шла о каком-нибудь непонятном отрывке из Спинозы или Канта, я, безусловно, проконсультировался бы у него. Но на сей раз я не нуждаюсь в арбитре, будь он хоть преподавателем философии. Мое мнение определено.
«Конечно, – подумал Матье. – Конечно». Его сердце сжалось, но он не обиделся на Брюне. «Кто я такой, чтобы давать советы? И во что я превратил свою жизнь?»
Брюне встал.
– Мне пора, – сказал он. – Разумеется, Сара, вы поступите, как пожелаете. Вы не состоите в партии, и то, что вы делаете для нас, уже существенно. Но если вы его оставите, то я просто попрошу вас прийти ко мне, когда Гомес пришлет вам известия о себе.
– Договорились, – сказала Сара.
Ее глаза блестели, казалось, она успокоилась.
– И не оставляйте улик. Сжигайте все, – сказал Брюне.
– Обещаю.
Брюне обернулся к Матье:
– До свидания, старый собрат.
Руки он ему не подал, а внимательно, сурово и с беспощадным удивлением посмотрел на него вчерашним взглядом Марсель.
Матье был обнажен под этими взглядами: высокий голый парень, хлебный мякиш. Растяпа. «Кто я такой, чтобы давать советы?» Он сощурился: Брюне казался уверенным и узловатым. «А на моем лице написано поражение». Брюне заговорил; у него был совсем не тот тон, какого Матье ожидал.
– У тебя удрученный вид, – мягко сказал он. – Что-то случилось?
Матье тоже встал.
– Я… у меня неприятности. Но это пустяки.
Брюне положил руку ему на плечо. Взгляд его потерял уверенность.
– Какое идиотство. Все время мотаешься взад-вперед, и уже нет времени для старых друзей. Если ты загнешься, я узнаю об этом через месяц, да и то случайно.
– Ну, я так скоро не загнусь, – рассмеялся Матье.
Он чувствовал хватку Брюне на своем плече, подумал: «Он меня не осуждает», – и проникся к нему смиренной благодарностью.
Брюне остался серьезным.
– Конечно, – сказал он. – Не так скоро. Но…
Наконец он, казалось, решился.
– Ты свободен около двух? У меня есть немного времени, и я мог бы ненадолго заскочить к тебе: сможем малость поболтать, как в прежние времена.
– Как в прежние времена. Я абсолютно свободен, буду ждать тебя, – сказал Матье.
Брюне дружески ему улыбнулся. Он сохранил свою простодушную веселую улыбку. Затем повернулся и направился к лестнице.
– Я провожу вас, – сказала Сара.
Матье взглядом проследил за ними: Брюне поднимался по ступенькам с поразительной гибкостью. «Не все потеряно», – сказал себе Матье. И что-то шевельнулось в его груди, что-то теплое и тихое, похожее на надежду. Он прошелся по мастерской. Над его головой хлопнула дверь. Малыш Пабло серьезно смотрел на него. Матье подошел к столу и взял резец. Сидевшая на медной пластине муха улетела. Пабло продолжал на него смотреть. Матье чувствовал себя смущенным, не зная почему. Казалось, что глаза ребенка его поглощают. «Дети, – подумал он, – маленькие обжоры, все их чувства сосредоточены в прожорливых ртах». Взгляд Пабло не был еще вполне человеческим, однако это уже была жизнь: недавно это дитя вышло из чрева, а уже кое-что собой представляло; оно было здесь, неуверенное, совсем махонькое, еще хранящее нездоровую бархатистость чего-то извергнутого; но за мутной влагой, заполняющей его глаза, засело маленькое жадное сознание. Матье играл с резцом. «Тепло», – подумал он. Вокруг него жужжала муха, а в розовой комнате в глубине другого чрева продолжал набухать пузырь.
– Знаешь, какой я видел сон? – спросил Пабло.
– Ну расскажи.
– Я видел сон, как будто я был пушинкой.
«Ведь оно думает!» – сказал себе Матье.
Он спросил:
– И что ты делал, когда был пушинкой?
– Ничего. Я спал.
Матье резко бросил резец на стол: испуганная муха закружилась, потом села на медную пластину между двумя бороздками, изображавшими женскую руку. Нужно действовать быстро, так как пузырь все это время надувался, он делал потаенные усилия оторваться, вырваться из мрака и стать подобным этому, маленькой бледной присоской, всасывающей окружающий мир.
Матье сделал несколько шагов к лестнице. Он слышал голос Сары. «Вот она открыла входную дверь, стоит на пороге и улыбается Брюне. Почему она медлит и не спускается?» Он повернул назад, посмотрел на ребенка, посмотрел на муху. «Ребенок. Мыслящая плоть, которая кричит и кровоточит, когда ее убивают. Муху убить легче, чем ребенка». Он пожал плечами: «Я никого не собираюсь убивать. Я только хочу помешать ребенку родиться». Пабло снова принялся играть в кубики, о Матье он уже забыл. Матье протянул руку, коснулся пальцем стола и удивленно повторил про себя: «Помешать родиться…» Как будто где-то был готовый ребенок, ждущий своего часа, чтобы выпрыгнуть по другую сторону декораций в эту пьесу жизни, под солнце, а Матье загораживает ему проход. И действительно почти так и было: существовал совсем маленький человечек, задумчивый и тщедушный, капризный и болезненный, с белой кожей, с большими ушами, с родинками, с горсточкой отличительных примет, какие заносят в паспорт, человечек, который никогда не будет бегать по улицам – одной ногой по тротуару, а другой в сточной канавке; у него были глаза, пара зеленых глаз, как у Матье, или черных, как у Марсель, и они никогда не увидят ни сине-зеленых зимних небес, ни моря, ни единого лица; у него были руки, которые никогда не коснутся ни снега, ни женской плоти, ни коры дерева; был образ мира, кровавый, светлый, угрюмый, полный увлечений, мрачный, полный надежд, образ, населенный садами и домами, ласковыми девушками и ужасными насекомыми, образ, который разрушат проколом спицы, точно воздушный шарик в Луврском парке.
– Вот и я, – сказала Сара, – простите, что заставила вас ждать.
Матье поднял голову и почувствовал облегчение: она склонилась над перилами, тяжелая и уродливая; то была зрелая женщина, со старой плотью, которая, казалось, вышла из солености и никогда не была рождена. Сара ему улыбнулась и быстро спустилась по лестнице, кимоно развевалось вокруг коротеньких ног.
– Ну что? Что случилось? – жадно спросила она.
Большие тусклые глаза настойчиво рассматривали его. Он отвернулся и сухо сказал:
– Марсель беременна.
– Вот как!
Вид у Сары был скорее обрадованный. Она застенчиво начала:
– Итак… вы скоро…
– Нет, нет, – живо перебил ее Матье, – мы не хотим детей.
– А! Да, – сказала она, – понимаю.
Она опустила голову и умолкла. Матье не смог вынести эту печаль, которая не была даже упреком.
– Помнится, и с вами такое когда-то случалось. Гомес мне говорил, – грубовато возразил он ее мыслям.
– Да. Когда-то…
И вдруг она подняла глаза и порывисто добавила:
– Знаете, это пустяк, если не упустишь время.
Она запрещала себе осуждать его, она отбросила осуждение и упреки, у нее было только одно желание – утешить.
– Это пустяк…
Он попытался улыбнуться, посмотреть в будущее с надеждой. Теперь по этой крошечной и тайной смерти будет носить траур только она.
– Послушайте, Сара, – сказал Матье раздраженно, – попытайтесь меня понять. Я не хочу жениться. И это не из эгоизма: по-моему, брак…
Он остановился: Сара была замужем, она вышла за Гомеса пять лет назад. Немного погодя он добавил:
– К тому же Марсель тоже не хочет ребенка.
– Она что, не любит детей?
– Они ее не интересуют.
Сара казалась озадаченной.
– Да, – проговорила она, – да… Тогда действительно…
Она взяла его за руки.
– Мой бедный Матье, как вы должны быть огорчены! Я хотела бы вам помочь.
– Именно об этом и речь, – сказал Матье. – Когда у вас были… эти затруднения, вы к кому-то обращались, кажется, к какому-то русскому.
– Да, – сказала Сара и переменилась в лице. – Это было ужасно.
– Да? – спросил Матье дрогнувшим голосом. – А что… это очень больно?
– Нет, не очень, но… – жалобно сказала она. – Я думала о маленьком. Знаете, так хотел Гомес. А в то время, когда он чего-то хотел… Но это был ужас, я никогда… Сейчас он мог бы умолять меня на коленях, но я бы этого снова не сделала.
Она растерянно посмотрела на Матье.
– После операции мне дали пакетик и сказали: «Бросьте в сточную канаву». В сточную канаву! Точно дохлую крысу! Матье, – сказала она, сильно сжимая ему руку, – вы даже не знаете, что собираетесь сделать!
– А когда производят на свет ребенка, разве больше знают? – с гневом спросил Матье.
Ребенок – одним сознанием больше, маленький бессмысленный отсвет, который будет летать по кругу, ударяться о стены и уже не сможет убежать.
– Нет, но я хочу сказать: вы не знаете, чего требуете от Марсель. Боюсь, как бы она вас позже не возненавидела.
Матье снова представил себе глаза Марсель, большие, скорбные, обведенные кругами.
– Разве вы ненавидите Гомеса? – сухо спросил он.
Сара сделала жалкий и беспомощный жест: она никого не могла ненавидеть, а Гомеса меньше, чем кого бы то ни было.
– Во всяком случае, – сказала она, замкнувшись, – я не могу направить вас к этому русскому, он все еще оперирует, но он спился, я ему больше не доверяю. Два года назад он влип в грязную историю.
– А другого вы никого не знаете?
– Никого, – медленно сказала Сара. Но вдруг доброта озарила ее лицо, и она воскликнула: – Да нет же, я придумала, как же я раньше не догадалась! Я все улажу. Вальдман. Вы его не видели у меня? Еврей, гинеколог. Это в некотором роде специалист по абортам, с ним вы будете спокойны. В Берлине у него была огромная врачебная практика. Когда нацисты пришли к власти, он поселился в Вене. Затем произошел аншлюс, и он приехал в Париж с маленьким чемоданчиком. Но задолго до того он переправил все свои деньги в Цюрих.
– Вы думаете, получится?
– Естественно. Сегодня же пойду к нему.
– Я рад, – сказал Матье, – я страшно рад. Он не очень дорого берет?
– Раньше он брал до двух тысяч марок.
Матье побледнел: «Это же десять тысяч франков!»
Она живо добавила:
– Это был грабеж, он заставлял платить за свою репутацию. Здесь его никто не знает, и он будет разумней: я предложу ему три тысячи франков.
– Хорошо, – сказал Матье, стиснув зубы.
В мозгу стучало: «Где я возьму такие деньги?»
– Послушайте, – решилась Сара, – а почему бы мне не пойти к нему сейчас же? Он живет на улице Блез-Дегофф, это совсем рядом. Я одеваюсь и выхожу. Вы меня подождете?
– Нет, я… У меня назначена встреча на половину одиннадцатого. Сара, вы сокровище, – сказал Матье.
Он взял ее за плечи и, улыбаясь, встряхнул. Она поступилась ради него своим сильнейшим отвращением, из великодушия стала соучастницей в деле, которое внушало ей ужас: она светилась от удовольствия.
– Где вы будете в одиннадцать? – спросила она. – Я могла бы вам позвонить.
– Я буду в «Дюпон Латен» на бульваре Сен-Мишель. Я там дождусь вашего звонка, хорошо?
– В «Дюпон Латен», договорились.
Пеньюар Сары широко распахнулся на ее огромной груди. Матье прижал ее к себе из нежности и чтобы не видеть ее тела.
– До свидания, – сказала Сара, – до свидания, мой дорогой Матье.
Она подняла к нему ласковое безобразное лицо. В нем была трогательная и почти чувственная покорность, которая подстрекала скрытое желание сделать ей больно, вызвать у нее стыд. «Когда я ее вижу, – говорил Даниель, – я понимаю садистов». Матье расцеловал ее в обе щеки.
«Лето!» Небо неотступно преследовало улицу, это было какое-то природное наваждение; люди плавали в небе, лица их пламенели. Матье вдыхал зеленый, живой запах, свежую пыль; он сощурил глаза и улыбнулся. «Лето!» Он сделал несколько шагов; черный расплавленный асфальт, усыпанный белой крошкой, прилипал к его подошвам: Марсель была беременна, и это было другое лето.
Она спала, ее тело купалось в густой тени и потело во сне. Ее красивая смугло-фиолетовая грудь осела, капельки просачивались наружу, белые и солоноватые, как цветы. Она спит. Она всегда спит до полудня. Но пузырь в ее чреве не спит, ему некогда спать: он питается и раздувается. Время текло непреклонными и непоправимыми толчками. Пузырь раздувался, а время текло. «Деньги нужно найти в ближайшие двое суток».
Люксембургский сад, прогретый и белый: статуи, голуби, дети. Дети бегают, голуби взлетают. Сплошной световой поток, ускользающие белые вспышки. Матье сел на железную скамью: «Где найти деньги? Даниель не даст, но я все же у него спрошу… На худой конец всегда можно обратиться к Жаку». Газон курчавился у самых ног, статуя выгнула к нему молодой каменный зад, голуби ворковали и тоже казались каменными. «В конце концов мне не хватает каких-то двух недель, еврей подождет до конца месяца, а двадцать девятого зарплата».
Матье вдруг опомнился – он словно увидел то, о чем думает, и ужаснулся самому себе: «Сейчас Брюне идет по улицам, наслаждается светом, ему легко, потому что он в ожидании, он идет через хрупкий город, который вскоре разрушит, он чувствует себя сильным, он вышагивает немного вразвалку, осторожно, потому что еще не пробил час разрушения, он ждет его, он надеется. А я! А я! Марсель беременна. Уговорит ли Сара еврея? Где найти деньги? Вот о чем я размышляю!» Внезапно он снова увидел близко посаженные глаза под густыми черными бровями: «Из Мадрида. Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось». В голове пронеслось: «Я старик».
«Я старик. Вот я развалился на скамье, по уши увяз в своей жизни, ни во что не верю. Однако я тоже хотел отправиться в какую-нибудь Испанию. А потом не вышло. Разве эти Испании еще существуют? Я здесь, я себя смакую, я чувствую во рту застарелый вкус железистой воды и крови, мой вкус, я – это мой собственный вкус, я существую. Существовать – это пить себя, не испытывая жажды. Тридцать четыре года. Тридцать четыре года, как я себя смакую. И я старик. Я работал, ждал, имел что желал: Марсель, Париж, независимость; теперь все кончено. Больше я ничего не жду!» Он смотрел на этот обычный сад, всегда новый, всегда одинаковый, как море, целое столетие одно и то же, с одинаковыми легкими цветными волнами и тем же гулом. Те же дети, резвящиеся, как и столетие назад, то же солнце на гипсовых богинях с отбитыми пальцами, те же деревья; но была и Сара в желтом кимоно, была беременная Марсель, были деньги. И все это было так естественно, так обиходно, так монотонно самодостаточно, что могло заполнить жизнь, это и была жизнь. А остальное – все эти Испании, все эти воздушные замки – может, все это… «Что? Только тепловатая мирская религия для собственного употребления? Сдержанный небесный аккомпанемент всей моей подлинной жизни? Алиби? Именно таким они меня видят. Даниель, Марсель, Брюне, Жак: человек, который хочет быть свободным. Он ест, пьет, как все остальные, он государственный служащий, он не занимается политикой, он читает поддерживающие Народный фронт «Эвр» и «Попюлер», у него трудности с деньгами. Но он хочет быть свободным, как филателисты хотят приобрести коллекцию марок. Свобода – тайный сад. Его маленький сговор с самим собой. Человек ленивый и холодный, немного химерический, но в основе очень благоразумный, человек, который скрытно смастерил себе банальное, но прочное счастье и изредка оправдывает себя возвышенными соображениями. Разве я не таков?»
Ему семь лет, он в Питивье, у дяди Жюля, зубного врача, один, в приемной, он играет в игру, которая помешала бы ему существовать: нужно попытаться не проглотить себя, как будто во рту у тебя очень холодная жидкость, и ты задерживаешь маленькое глотательное движение, которое отправит ее в глотку. Ему удалось полностью опустошить свою голову. Но эта пустота еще имела вкус. Это был день глупостей. Он погряз в летнем пекле далекой провинции, пропахшем мухами, и действительно он только что поймал муху и оборвал ей крылышки. Он установил, что голова ее похожа на серную головку кухонной спички, нашел в кухне серку и потер об нее мушиную головку, ожидая, что головка загорится. Но действовал он небрежно: то была всего лишь маленькая праздная комедия, ему по-настоящему не удавалось ею увлечься, он хорошо знал, что муха не загорится; на столе были разорванные иллюстрированные журналы и прекрасная серо-зеленая китайская ваза с ручками, похожими на когти попугая; дядя Жюль говорил, что ей три тысячи лет. Матье подошел к вазе, заложив руки за спину, и посмотрел на нее, нетерпеливо переступая ногами: ужасно быть маленьким шариком из хлебного мякиша в этом древнем многослойном мире, рядом с этой бесстрастной трехтысячелетней вазой. Он повернулся к ней спиной и принялся озираться и шмыгать носом перед зеркалом, но ему не удавалось развлечься, потом он вдруг вернулся к столу, поднял вазу, которая оказалась очень тяжелой, и бросил ее на паркет: это пришло ему в голову внезапно, и сразу же после этого он почувствовал себя легким, как паутинка. Он восхищенно смотрел на черепки фарфора: что-то только что случилось с этой трехтысячелетней вазой среди пятидесятилетних стен, под вечным светом лета, что-то очень дерзкое, походившее на рассвет. Он подумал: «Это сделал я!» – и почувствовал себя гордым, свободным от мира, без привязанностей, без семьи, без корней, махоньким упрямым ростком, прободавшим земную твердь.
Ему было шестнадцать, он, маленький задира, лежал на песке в Аркашоне и смотрел на длинные плоские океанские волны. Он только что поколотил молодого бордосца, который бросал в него камни, и заставил того есть песок. Он сидел в тени сосен, запыхавшийся, ноздри его были наполнены запахом смолы, и ему казалось, что он зависший в воздухе маленький взрыв, круглый, крутой и необъяснимый. Он сказал себе: «Я буду свободным». Впрочем, он скорее ничего себе не сказал, но именно это ему хотелось сказать: он как бы зарекся, что вся его жизнь будет похожа на этот внезапный взрыв. Ему шел двадцать второй год, он читал в своей комнате Спинозу, был последний день карнавала накануне поста, по улице проезжали большие разноцветные повозки, нагруженные картонными манекенами: он поднял глаза и снова повторил свой зарок с философской выспренностью, которая с недавних пор была свойственна Брюне и ему; он сказал себе: «Я спасу себя сам». Десятки, сотни раз твердил он свой завет. Слова менялись с возрастом, с новым интеллектуальным уровнем, но это была его единственная и неизменная клятва; и в собственных глазах Матье не был ни высоким, тяжеловатым мужчиной, преподававшим философию в мужском лицее, ни братом Жака Деларю, адвоката, ни любовником Марсель, ни другом Даниеля и Брюне; он был не чем иным, как своим зароком.
Какой зарок? Он провел рукой по уставшим от света глазам, он больше не был ни в чем уверен, все чаще и чаще он ощущал себя в некоем самоизгнании. Чтобы понять свой зарок, следовало быть в ладу с самим собой.
– Подайте мячик, пожалуйста!
Теннисный мячик подкатился к его ногам, мальчик бежал к нему с ракеткой в руке. Матье поднял мячик и кинул мальчугану. Определенно он был не в ладу с самим собой: он закис в этом вязком зное и ощущал давнее монотонное чувство обыденности – напрасно он повторял фразы, которые когда-то его вдохновляли: «Быть свободным. Быть самодостаточным, способным себе сказать: я существую, потому что этого хочу, быть своим собственным истоком». Пустые, высокопарные слова, докучная болтовня интеллектуала.