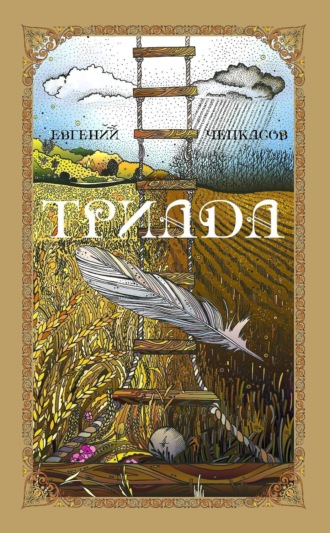 полная версия
полная версияТриада
И Павел негромко и обстоятельно рассказал о домогательствах беса. Отец Димитрий, придвинув стул вплотную к сидящему на постели, внимательно слушал его рассказ; старичок Иванов с соседней койки тоже пытался вслушиваться, но вскоре бросил ввиду тихости и непонятности повествования.
– Надо же… – задумчиво пробормотал батюшка и продолжил тихим исповедальным голосом: – Ко мне ведь тоже приставлен один поганец из их ведомства, во сне иногда является. Говорливый, нагловатый, в костюмчике – он мне представился даже, Иваном Федоровичем его зовут.
– Как Ивана из «Братьев Карамазовых»?
– С умным человеком и поговорить приятно, – усмехнулся отец Димитрий. – Давно перечитывали?
– В прошлом месяце закончил. Я когда диалог брата Ивана с чертом читал, о своем знакомом вспоминал.
– А ваш знакомый и сам не прочь о себе напомнить…
– Отец Димитрий, неужели же всем людям бесы являются? Для бесед… Во сне, а то и наяву… А?
– Наверное, только большим грешникам и большим праведникам. Я отношусь к первой категории, а к какой вы – не знаю.
– Я же вам исповедовался и историю свою рассказывал. Какой из меня праведник?.. А на себя вы, по-моему, наговариваете.
– Павел, ничегошеньки вы обо мне не знаете, – молвил иерей с мягкой грустью. – Это даже как-то нечестно. Вы про себя рассказывали, а я про себя – нет. Идеализировать священников – это вообще большая ошибка. Идеализация – она хуже клеветы: клевету можно опровергнуть, а в идеале можно только разочароваться. Один Бог без греха. А свою историю я вам сейчас расскажу. Знаете ли… – отец Димитрий замялся и слегка покраснел. – Мне кажется, что после моего рассказа мы сможем перейти на «ты». Всё-таки ровесники, три года знакомы, а грешен я не меньше вашего.
Батюшка опасливо огляделся и заговорил еще тише, так что даже Павлу было едва слышно. Впрочем, начала повествования Слегин не смог воспринять, радостно оглоушенный возможностью перехода на «ты».
– Надо же! – усмехнулся отец Димитрий. – Мне уже почти не хочется рассказывать. Чисто интеллигентская черта – не разрушать благоприятного представления о себе, ни в чем не каяться, а тихо-мирно рефлексировать, как сказано в одном мудром фильме, «сделать гадость, а потом долго-долго мучиться»… Однако попробуем преодолеть. Дело в том, Павел…
Павел вздрогнул, очнувшись от приятных раздумий.
– … дело в том, что я всего лишь четыре года как священник, всего лишь четыре года. Восемь лет назад архиепископ благословил меня на левый клирос и на заочное обучение в семинарии. На третьем курсе был рукоположен в диаконы, на пятом – в иереи, заканчивал семинарию уже священником. А до тех восьми лет относительной воцерковленности я, любезный Павел, был в секте.
– В секте?!
– Именно. Причем не в какой-нибудь протестантской, где хотя бы иллюзия христианства присутствует, а во вполне оккультной секте. Знаете ли, в те годы была мода на эзотерику, причем это, в отличие от дней сегодняшних, была вполне элитарная мода. Студенту-гуманитарию, каким я был тогда, любое «там что-то есть» казалось вполне революционным и безусловно положительным заявлением. И вдруг – приглашение в тайное общество, с инициациями, с ритуалами, с бесконечными ступенями посвящения… Это вам не Церковь, где одни глупые бабки коленки протирают, а священники – сплошь стукачи или переодетые гэбэшники! Это синтез науки и тайной мудрости Востока! Это религия одушевленного Космоса! Вот такая вот бяка была у меня в голове, Павел.
Сейчас все эти оккультные секточки всего лишь сфера бизнеса: вводная лекция – бесплатно, первая ступенька – столько-то, вторая – столько-то, третья – и т.д., и т.п. Каждая ступенька дает некую сумму оккультных знаний, умений и навыков, увеличивает возможности посвященного. Очень похоже на сетевой маркетинг с рангами дистрибьюторов.
Раньше было не так: те же ступеньки, но не за деньги, а по заслугам. Я был неглуп, умел убеждать, не уклонялся от общественной работы и, соответственно, довольно быстро шагал по лестнице оккультного познания. «Малых сих» я убеждал в надрелигиозности нашего тайного общества, в неприменимости к нему, скажем, христианской терминологии, однако чем выше я карабкался, тем больше убеждался в обратном. Безличностные космические силы и энергетические потоки внезапно оказывались очень даже личностными и требовали жертвоприношений. А Великий Астральный Свет носил, как выяснилось, более короткое имя – Люцифер. Отношение к Православию на более высоких ступенях тоже менялось: из сборища дураков и гэбэшников Церковь превращалась в реальную силу, абсолютно враждебную нашей секте. Я решил, что врага следует знать в лицо, принялся изучать Православие и в результате стал православным священником.
Отец Димитрий невесело улыбнулся, послушал молчание Павла и продолжил:
– Да, Павел. Я великий грешник. Две трети из тех, кого духовно соблазнил, я смог перетащить в Церковь. А одну треть – не смог. И этой одной трети, если по справедливости, вполне достаточно для моего осуждения. Однако я надеюсь на милосердие Божие.
Священник вновь замолчал, а Павел, чрезвычайно взволнованный, пытался подобрать нужные слова – и не получалось.
– Может быть, вы и не зря меня за беса приняли, – проговорил батюшка, неловко усмехнувшись. – Хотя джинсы – это случайность: матушка зимние штаны замочила, говорит – грязные…
– Брат мой! – воскликнул Павел, подобрав-таки слова, и трое остальных обитателей палаты, в том числе и вернувшийся Колобов, посмотрели на Слегина и его гостя.
– Братство во Христе гораздо лучше, чем братство во грехе, – пробормотал отец Димитрий, разглядывая узор на линолеуме. – И лучше бы нам бесы не являлись, хоть это и роднит нас. – Он поднял стыдливо опущенную голову, посмотрел в глаза собеседника и улыбнулся. – Но братьям сподручнее говорить друг другу «ты» – тебе так не кажется?
– Кажется, – уверенно ответил Павел и робко спросил: – Как ты пришел к Богу? Евангелие? Богословская литература? Молитвенный опыт?
– Сначала – Достоевский. Потом – Евангелие и молитвенный опыт. А богословская литература – уже в семинарские годы.
– Достоевский… – удивленно повторил Павел. – А я думал, что это тупиковый путь.
– В смысле?
– Слишком много грязи и страстей. А о Боге почти ничего – только мельком, краем глаза или на горизонте. А в грязь и страсти попросту суют лицом.
– Вот именно! Ты слышал про апофатическое богословие?
– Богопознание через познание того, что не является Богом.
– Не всякий мой прихожанин столь сведущ.
– В прошлом году я много читал.
– Похвально. Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи – это движение в сторону неописуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа.
Священник говорил уверенным, почти лекционным тоном, и Павлу вновь вспомнилось отличническое доказательство теоремы и стук мелка о доску и подумалось, что две трети подопечных отца Димитрия, которых он вырвал из секты и привел в Православие, – это, вероятно, довольно большое количество людей.
– Всепрощающего… – пробормотал Слегин. – А разве Он всех прощает? Разве все обречены на спасение?
– Срезал, – похвалил батюшка. – Милосердие Бога безгранично, мы с тобой это на себе испытали. Однако простить и спасти Он может только того, кто хочет быть прощенным и спасенным и выполняет указания Врача. Словом, если хочешь бессмертия – принимай лекарство от смерти, то есть причащайся, а перед причастием – кайся в грехах. Это я не тебе, Павел, говорю – это я общо. А кто не желает принимать лекарства, тот умрет, и Врач тут совсем не виноват.
– Кажется, диакон Андрей Кураев такое развернутое сравнение приводил.
– Да и не он один, – заметил отец Димитрий и процитировал: – «Отче Святый, Врачу душ и телес наших…» Забыл, что ли?
– Не забыл, – ответил Павел и улыбнулся.
– Ну, вот и хорошо. Раз не забыл – скоро поправишься. Я завтра часов в восемь приду. Будь готов.
– Всегда готов.
Посмеялись и помолчали.
– А ты сегодня намного лучше выглядишь, чем в прошлый раз, – похвалил священник. – Тогда совсем доходягой был.
– Лучше. Со вчерашнего дня уже сам в столовую хожу.
– Молодец.
– А еще меня вчера на флюорографию возили, в коляске. Флюорографию на первом этаже делают, я бы не дошел.
– Приятно, когда тебя возят?
– Скорее стыдно.
– Очень хорошо, Павел. А результаты уже известны?
– Врач говорит, что организм отреагировал на лекарства и есть улучшения.
– Ну, вот и славно… Павел, мне идти пора. Завтра увидимся.
Священник встал со стула, а больной – с кровати; священник протянул руку, а больной пожал ее.
– До завтра, Павел.
– До завтра, отец Димитрий.
– Это был твой брат? – спросил у Слегина Колобов, когда посетитель ушел.
– По плоти – нет, по вере – да, по духу – скорее отец, нежели брат.
– Не понял, – простодушно констатировал Михаил.
– Завтра утром поймешь, – улыбчиво пояснил Павел.
***
Однако до утра еще нужно было дожить: утру предшествовали вечер и ночь. Вечером Павел самостоятельно сходил на уколы, помолился в пальмовой молельне, глядя куда-то сквозь оконное стекло и заснеженный пустырь, и отправился спать.
В ночном сне ему приснилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Слегин шел в церковь к большому празднику и по собственному умонастроению вдруг понял, что он не Павел, а дядя Паша, и ему стало грустно, как бывает грустно душе, возвращающейся в тело после клинической смерти.
Дядя Паша рыкнул, прогоняя странную грусть и пугая прохожих, после чего по-крабьи заковылял далее. Глаза его (прямосмотрящий и скошенный к носу) глядели вниз, туда, где ступали его ноги (здоровая и покалеченная). Вверх смотреть было незачем: он и так знал, что в воздухе кишмя кишат бесы и оттого воздух похож на кипящую воду с бесами-чаинками.
Обычно дядя Паша в церковь не ходил: не дурак же он в конце концов – какие в аду церкви?! Однако на Крещение он регулярно заглядывал на церковный двор посмотреть, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, – и хохотал до изнеможения. Нынче церковный двор вновь был забит людьми с пустыми бидонами, трехлитровыми банками и пластиковыми бутылками, и это было очень смешно. Но на сей раз какое-то чувство, столь же непонятное, как и недавняя грусть, втолкнуло дядю Пашу в храм.
Народу было не очень-то много: большинство стояло снаружи в ожидании водосвятного молебна. Дядя Паша уже довольно давно выяснил, что на клиросах поют матом, а прихожане ничего не замечают, и это было уморительно, но слушать всё-таки не хотелось. Теперь же в храме совершалось что-то необычное: через открытые Царские врата было видно, что в алтаре какого-то мужчину с испуганным и откуда-то знакомым лицом, бородача, одетого в белое, водят вокруг престола, ставят на колени, подводят к архиерею… Наконец иерарх возгласил:
– Аксиос!
– Аксиос, аксиос, аксиос! – весело подхватил клир.
«Иностранное ругательство», – решил дядя Паша и подпел по-русски:
– Накося, накося, выкуси!
На него возмущенно посмотрели, и он, посмеиваясь, пошел из храма, а с клироса неслось вдогонку:
– Достоин! Достоин!
– Достоин… – повторил дядя Паша и тревожно подумал: «Откуда же я его знаю?..»
Подумав так, человек раздвоился и в упор посмотрел на свое щетинистое лицо со скошенным к носу глазом. «Этот глаз надо запомнить», – понял Слегин.
«Глаз!» – мысленно воскликнул Павел, проснувшись.
Он посмотрел на часы, поспешно оделся и отправился в пальмовую молельню. Там он прочитал утренние молитвы и молитвы перед причащением, а канонов читать не стал, не надеясь на свою память. До прихода отца Димитрия он успел вернуться. На этот раз священник пришел в широкорукавном подряснике и скуфейке, с епитрахилью, крестом и дароносицей на груди, и ошеломленный Михаил Колобов понял, почему вчерашний посетитель Слегина, не являясь братом по плоти, может быть братом по вере и духовным отцом.
После причащения Павел спросил:
– Отец Димитрий, а вас (тебя то есть – никак не привыкну)… Тебя, случаем, не в праздник Крещения рукополагали? Не в соборе?
– Да, – удивленно ответил батюшка. – Завтра ровно четыре года будет.
– Я, оказывается, видел… тебя тогда. У тебя довольно испуганное лицо было.
– Как это ты запомнил, интересно?
– Во сне сегодня увидел.
– Надо же… А там, когда диакон тебя водит то вокруг престола, то архиерею руку целовать, вообще ничего не соображаешь. Испуганное лицо… – Священник рассмеялся и продолжил: – Да, четыре года. А сегодня вечером я буду воду в проруби святить, многие моржевать придут. Вообще-то, от крещенской воды еще никто не заболел; может, и я окунусь… Да, праздник великий! Ну, Павел, поздравляю тебя с принятием святых Христовых Таин, с наступающим праздником тоже поздравляю. А я пойду. Выздоравливай.
Павел поднялся с постели и взял благословение, после чего они с отцом Димитрием троекратно расцеловались.
– В следующий четверг приду причащать; может, и среди недели забегу. Ну, до встречи! – попрощался батюшка.
– До встречи! – ответил Слегин.
– До свидания! – дружно сказали остальные больные.
– До свидания! – ответил священник, улыбнулся и вышел.
Через минуту в палату влетела миловидная сестричка по имени Света, та самая, которую очень хвалил Женя Гаврилов, – впрочем, Павел лежал уже одиннадцатый день и имел не один случай убедиться в правоте Жени. Влетев в палату, Света на мгновение застыла, как девочка, играющая в прятки и достигшая наконец убежища; вся ее ладная фигурка и в особенности курносое личико были пропитаны напряженной растерянностью.
– Доброе утро, – сказала она, очнувшись. – Я вам градусники принесла. Сейчас шла сюда, а мне навстречу – поп! Настоящий! В рясе, с крестом! У меня аж мурашки по коже: я из-за угла – и он из-за угла…
– Это отец Димитрий, он к Павлу приходил, – готовно сообщил Колобов.
– Да?.. – Девушка заинтересованно посмотрела на Павла. – А вам, Слегин, с сегодняшнего дня дышать назначили. До поста дойти сможете?
– Смогу. А в каком смысле дышать?
– Пойдемте, – сказала Света с лакомой улыбкой. – Я вам всё объясню.
– Когда моя дочка так улыбается, я ее убить готов, – проговорил Михаил после исчезновения медсестры и больного.
– Она дочка тебе? – уточнил Иванов.
– Нет, конечно. Просто улыбка одинаковая.
А тем временем Слегин и белохалатная Светлана медленно шли по коридору, и Павел, слегка задыхаясь, спрашивал:
– Простите, сестра… но разве вы раньше… не видели здесь… священников?
– Я здесь недавно работаю, – ответила та, подавляя ножную прыть. – Уже скоро…
Скоро они и впрямь подошли к медпосту – трехстенному закутку с деревянным ограждением, «похожим на стойку бара», – подумал бы кто-то. «Высотой как поручень возле троллейбусного окна», – отметил Павел. Часть ограждения была отделена и посажена на петли; ее-то Света и толкнула, пригласив больного войти. Сразу за ограждением располагался стол с телефоном, вдоль боковых стен стояли шкаф с медикаментами и диван, возле пухлого диванного валика притулился рахитичный столик на колесиках, увенчанный замысловатым аппаратом.
– Присаживайтесь вот сюда, ближе к краю, – предложила медсестра, легко обезглавливая ампулы, вытягивая из них лекарство и впрыскивая его в какой-то полупрозрачный пластмассовый стаканчик. – Сейчас будем дышать, – пояснила она, присоединяя стаканчик к шлангу аппарата и закрывая сверху клювообразной насадкой. – Вот вам пока градусник. Дышать будете десять минут, заодно и температуру смеряете. – Она щелкнула переключателем, аппарат заурчал, а жидкость внутри стаканчика забурлила. – Мундштук берете в рот, вдыхаете только ртом. Когда вдыхаете, нажимаете вот на эту кнопку, выдыхаете через нос. Понятно?
Павел кивнул, нажал кнопку под клювом мундштука, вдохнул влажный лекарственный воздух, отпустил кнопку, выдохнул через нос, нажал кнопку… В палате он сплюнул в раковину, прополоскал рот и почистил зубы, а потом позвали завтракать.
В палате № 0 завтракали только двое – Слегин и Колобов. Карпов тоже взял завтрак, но лишь тоскливо глядел на стынущую молочную вермишель с пенками: анализ крови нужно было сдавать натощак, а медсестра-кровопускательница задерживалась. Иванов и вовсе не ходил на завтрак, поскольку успел хорошенечко наесться домашними подношениями, и теперь спал с полуоткрытым ртом.
Доев, Михаил очень медленно (чтобы не скрипнула) поднялся с постели, выудил из тарелки длиннющую (вероятно, специально отложенную) вермишелину и со шкодливым выражением на лице пошел на цыпочках к почивающему старичку Иванову. Павел и Саша заинтересованно наблюдали, как озорник, достигнув цели, принялся водить влажной вермишелиной по ладони спящего, а ладонь судорожно вздрагивала, взмывала в воздух, пытаясь избавиться от навязчивой мухи… Наконец Иванов проснулся, оценил ситуацию и, повернувшись к соседней кровати, озадаченно сказал:
– Павел, вот ты – умный. Вот ты объясни мне – что этот шельмец делает?
– Озорничает, – ответил Слегин и, не в силах сдержаться, расхохотался.
– Дядь Коль, обедать уж пора, а ты спишь! – сообщил шалун.
– Да иди ты отсель! – сердито ответил разбуженный, глянул на часы и добавил: – Ой, ну и дурак!
– Скажи спасибо, что он тебе «велосипед» не сделал, как в армии, – проговорил сквозь смех Саша.
– Спасибо.
– Карпов, кровь сдавать! – сказал кто-то, не заходя в палату.
– Наконец-то, – обрадовался тот и поспешно вышел.
До его возвращения Слегин доел вермишель и узнал, что «велосипедом» называется довольно жестокая шутка: спящему вставляют между пальцами ног спички, поджигают и смотрят.
– Тебя, похоже, выписывать собираются, – предположил Колобов, взглянув на вернувшегося однопалатника: одна рука Карпова была согнута в локте, а большой и безымянный пальцы другой руки сжимали ватку. – И из вены, и из пальца. И ты ведь утром еще мочу сдавал?
– Сдавал, – гордо подтвердил Саша. – А к десяти на флюорографию пойду.
– Точно – выписывают.
– Смотря какие результаты будут. Ты, Миша, не говори пока ничего – вдруг сглазишь. В любом случае будем лежать до победы.
– Ага, – мрачно проговорил Иванов. – До 9 мая.
Весело было этим утром в палате.
Во время обхода Мария Викторовна сказала, что Павел выглядит намного лучше и спросила, продолжается ли кровохарканье.
– Вчера было раза три, сгустками, а сегодня – нет, – ответил Слегин.
– Хрипы не прослушиваются, – комментировала врач. – Это славно. Дышать ходили?
– Да. На уколы я со вчерашнего вечера тоже сам хожу.
– Замечательно. Набирайтесь сил, не залёживайтесь. Со следующей недели вам уже можно будет на дыхательную гимнастику ходить.
– Лет двадцать гимнастикой не занимался.
– А зря.
Иванову Мария Викторовна ничего не сказала, а Колобову посулила бронхоскопию назавтра.
– А что это за зверь? – полюбопытствовал Михаил.
– Это такое обследование. Через нос вам введут в легкое трубочку с оптической системой и посмотрят, что у вас там интересного. По ощущениям чуть-чуть неприятнее, чем гастроскопия, но в целом терпимо.
– Ну ни хрена себе! – взревел Михаил, заметно побледнев.
– Колобов, не выражайтесь.
Старичок Коля хихикнул, а доктор перешла к Карпову.
– Вас, Карпов, можно поздравить. Завтра на выписку.
– А результаты анализов? – радостно спросил Саша.
– Результаты должны быть хорошими. Впрочем, после обеда принесут снимок, и я вам скажу точно.
– Тебя на выписку, а меня – на бронхоскопию, – жалобно проныл Колобов, когда Мария Викторовна удалилась. – Тебе хоть делали эту гадость?
– Нет. Сначала назначили, а потом отменили… У меня ведь сердце.
– И что?
– Могло не выдержать. Там, говорят, когда ее делают, шприц специальный держат наготове. Чтобы, если сердце остановится…
– Ну ни хрена себе! – взвыл Михаил, схватил сигареты и выскочил из палаты.
Павел сотворил Иисусову молитву и перекрестился, прибавив мысленно: «Господи, избави мя от бронхоскопии!»
После обеда Мария Викторовна сообщила Карпову, что снимок хороший.
– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Саша. – Обрадую теперь баушку.
«Баушка» пришла после тихого часа и, узнав новость, радостно перекрестилась.
– Слава Богу! А я хотела завтра водички тебе принести.
– Вместе за водичкой сходим, вместе. Меня утром выпишут – сразу и пойдем. Тут как раз церковь рядом. Самую большую свечку Богу поставлю! Чтобы уж никогда, никогда так не болеть! Сорок дней лежал! Хорошо ты меня, баушка, мороженым покормила…
– Приятное хотела тебе, дурню, сделать. Кто ж знал, что ты такой нежный?
– Да я не в обиду, я так…
– Так ты, дядь Саш, из-за мороженого здесь? – встрял Михаил.
– Из-за мороженого, – живо откликнулась старушка. – Я, дура, его побаловать хотела, а он только с мороза пришел, не согрелся, а потом ему опять уходить было нужно – опять не согрелся. Так и началось.
Поздним вечером в палату, как всегда, пришла медсестра и сделала старичку Иванову несколько уколов. Несмотря на ликующее настроение, Карпов не сдержался и проворчал:
– Работают, как папа Карло, а получают, как Буратино на мороженое. Это ж надо – за такие деньги в чужие задницы заглядывать! Эх, демократия!..
«Почему как Буратино на мороженое?» – подумал Павел, отходя ко сну. Поразмыслив, догадался. Догадавшись, заснул.
Его разбудило радио.
– Сегодня Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Богоявление, – сообщил диктор с той же деловитостью, с какой рассказывал минуту назад о подрыве российского бронетранспортера чеченскими боевиками. – Другое название этого праздника – Крещение. По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иордане посредством Иоанна Крестителя. Когда Иисус выходил из воды, разверзлись небеса, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и был глас с неба, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы. Вчера вечером и сегодня утром по всей России были отслужены торжественные водосвятные молебны. Освящалась вода в прорубях, и некоторые смельчаки купались там. Сложно сказать, что придавало им смелости – вера или же выпитое спиртное…
– Господи, помилуй нас, грешных! – прошептал Павел и принялся одеваться.
После завтрака медсестра Света принесла обеденную порцию таблеток и поздравила всех, а в особенности Павла («Почему в особенности?» – «Ведь вы же верующий») с праздником. Карпову таблеток уже не полагалось, а Иванову принесли целую горсть.
– Саш, твои теперь, наверное, мне достались, – прокомментировал старичок Коля, на что Саша ответствовал:
– «Пить так пить», – сказал котенок, когда его несли топить… Что-то я волнуюсь, мужики!
– Да ладно тебе, дядь Саш! – раздраженно проговорил Михаил. – Тебе нынче домой идти – не на бронхоскопию.
– Господи! Пусть никогда я больше сюда не попаду! – воскликнул Карпов, глянул по сторонам и широко перекрестился.
– Нервишки… – пробормотал Колобов.
Павел встал с постели, подошел к перекрестившемуся и тихо спросил:
– Саша, а почему ты крестика не носишь?
– Павел, а я, может, и некрещеный. Не знаю даже, считается это или не считается… Ты сядь, пожалуйста, вот сюда, на стул, – я тебе расскажу. В общем, попов тогда было мало, да и крестить в церкви боялись, – короче, меня крестила бабка. Это считается?
– Считается, – с удовольствием объяснил Слегин. – Только в церкви сразу же за таинством крещения совершают таинство миропомазания. А бабка его, естественно, совершить не могла. Миропомазание – это великое таинство. Слышал, наверное, что царей называют помазанниками Божьими. Это из-за того, что при восшествии на престол их второй раз в жизни мажут миром. А первый раз – при крещении, так что сходи в церковь, купи крестик и дополни таинство. В воду тебя уже окунать не будут, а миром помажут.
– Вот как, оказывается, тебя разговорить можно, – усмехнулся Карпов. – А насчет таинства – не знаю, пока. Я ведь в Бога не очень верую. Вот баушка моя – та верует. А мы с ней всю жизнь душа в душу. Я не пью – она и не ругается. Вот я и думать стал: если там всё-таки есть что-то, то мне бы и дальше с ней хотелось, с баушкой. А то ВЧК да ВЧК – страшно.
– Саша, я дам тебе телефон отца Димитрия. Если надумаешь – позвони. Кстати, креститься или дополнить таинство можно и дома. Он придет и всё сделает.
– Спасибо, Павел. Я подумаю. Где-то тут у меня была ручка с бумажкой…
На обходе Мария Викторовна поздравила Карпова и выдала ему анамнез, а Колобову сообщила, что бронхоскопия переносится на понедельник, поскольку не удалось достать талончик. В ответ на эмоциональные возгласы Михаила врач попросила его прекратить истерику и быть мужчиной. На этом обходе был осмотрен еще один больной – новенький, расположившийся на свежезастеленной кровати Карпова, то есть на бывшей кровати Карпова, в то время как сам Саша скромненько сидел на легком деревянном стуле с сумкой на спинке, словно и не лежал здесь Саша сорок дней, а лишь заскочил на минутку проведать кое-кого, и уже пора восвояси, под ручку с «баушкой», ждущей за дверью. Перед уходом он услышал занимательное – такое, о чем можно рассказать супруге или приятелю:



