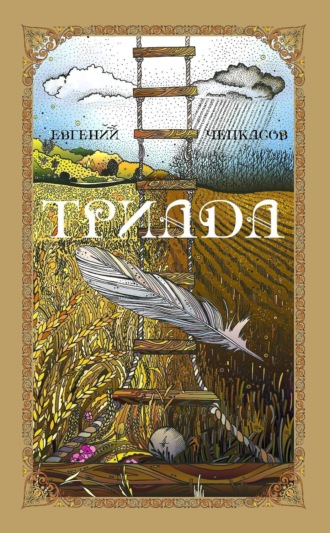 полная версия
полная версияТриада
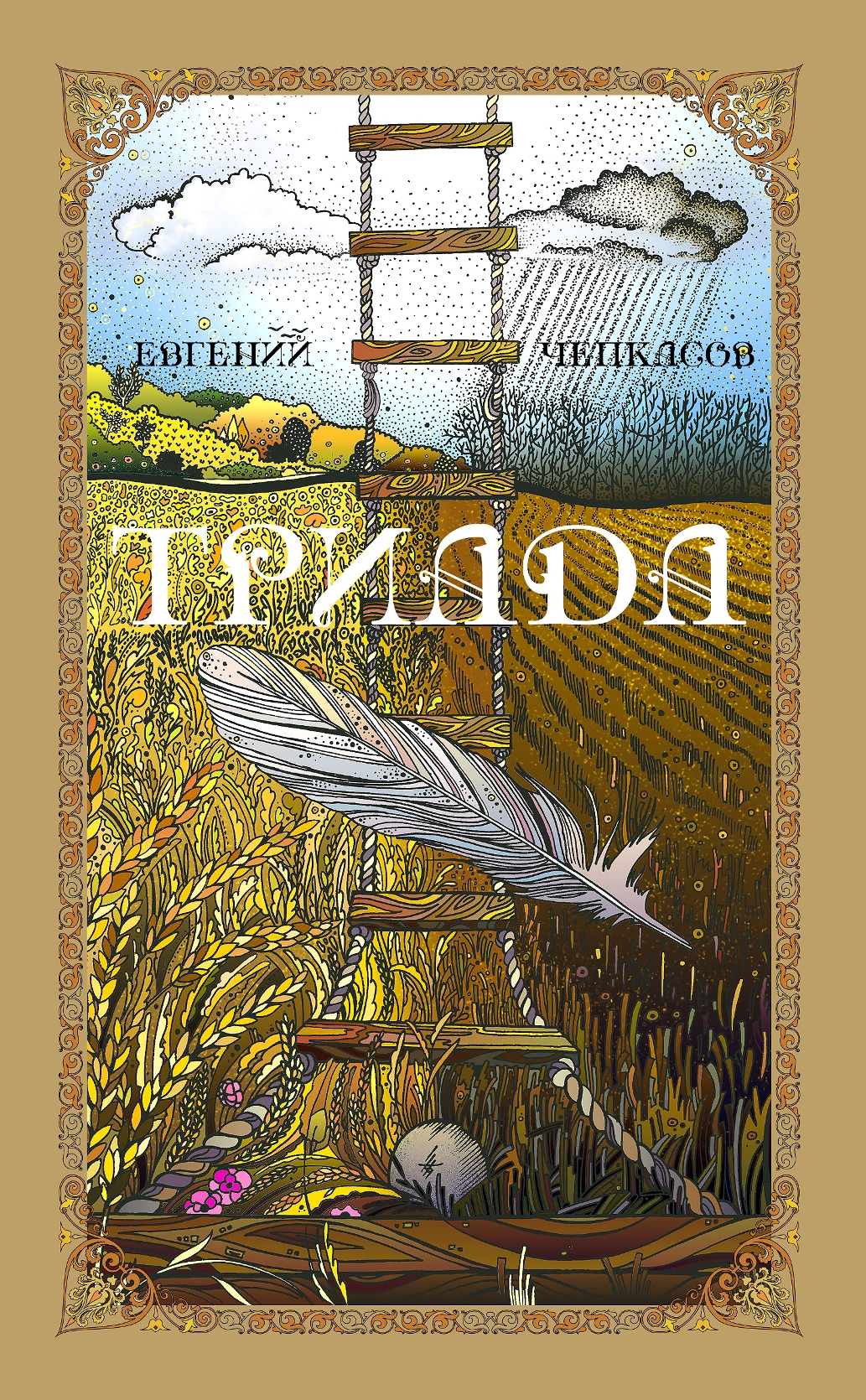
Евгений Чепкасов
ТРИАДА
Посвящается моим родителям.Автор
Кружение. Рассказ
Врачебница. Повесть
Детский сад. Роман
Об авторе и о книге
Об авторе
Евгений Валерьевич Чепкасов. Родился в городе Пензе в 1978 году, живет и работает в Санкт-Петербурге. Писатель, литературовед, этнограф, специалист по рекламе и связям с общественностью, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, доцент. Автор книг «Бухта Барахта» и «Триада», художественных публикаций в журналах «Наш современник», «Сура», «Волга» и др., коллективных сборниках «Молодой Петербург», «Молодая пензенская проза» и др. Лауреат Всероссийского конкурса молодых прозаиков (Переделкино, 2004), лауреат Международного фестиваля «Одигитрия» в номинации «Поэт» (Витебск, 2007, 2010, 2013), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Проза» (Пенза, 2009), обладатель гран-при премии им. А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (Пенза-Наровчат, 2010), Всероссийской премии им. М.Ю. Лермонтова (Тарханы, 2012). Автор многочисленных научных публикаций, в частности, монографий «Художественное осмысление шаманства в произведениях Ю.Н. Шесталова» (Ханты-Мансийск, 2007, 2012) и «Творчество Ф.М. Достоевского в школьном изучении» (Санкт-Петербург, 2008), а также Интернет-курса «Малые шедевры великой русской прозы» (2013).
О книге
По мере написания составные части книги «Триада», т.е. рассказ «Кружение», повесть «Врачебница» и роман «Детский сад», – публиковались в журналах «Сура», «Наш современник», коллективном сборнике «Молодая пензенская проза» и были отмечены литературными премиями, а также рецензиями критиков. В 2012 г. книга была издана в Санкт-Петербурге малым тиражом, который быстро разошелся, а в 2014 г. переиздана в Торонто (Канада). Таким образом, перед вами уже третье издание книги «Триада». За эту книгу Евгению Чепкасову была присуждена Всероссийская Лермонтовская премия (Тарханы, 2012).
Вот как оценивают книгу писатели-читатели:
Андрей Воронцов, писатель (о «Хромающем человеке» – повести, состоящей из «Кружения» и «Врачебницы»): «Перед нами действительно «петербургская повесть» – мистическая, глубокая, написанная «кровью души», с сильным влиянием образов Достоевского, но совсем не эпигонская, а напротив, творчески развивающая идеи великих писателей «петербургского периода» нашей литературы. А мы, если говорить честно, уже соскучились по значительным произведениям, созданным в Петербурге».
Ефим Сорокин, писатель: «Роман «Детский сад» – голос настоящего прозаика. Богатство языка и литературных приемов позволяют Чепкасову рисовать образы тонко и глубоко. Большой плюс романа – отточенная форма (а форма, как известно, это тоже содержание). В литературной ткани произведения персонажи живут, будто в Иерусалиме: все верующие. Здесь и православные, и свидетели Иеговы, и эзотерики, и атеисты. Здесь любого можно спросить: в чем твоя вера? И получить вполне вразумительный ответ».
В заключение приведем фрагмент вступительного слова автора из первого издания:
Книга «Триада» значит для меня очень много. Я писал ее десять лет. Эти десять лет во многом прошли под знаком «Триады», и некоторые события, происходившие со мной и моими знакомыми в этот период, так или иначе отразились в книге. Некоторые события жизни влияли на сюжет, и некоторые события сюжета влияли на жизнь. Кое-что я проверял жизнью, чтобы написать достовернее, а кое-что прописывал, чтобы не проживать в реальности. Но гораздо больше событий случалось со мной помимо моей воли, и именно они коренным образом влияли на то, чтобы книга «Триада» была написана. <…>
Я мистик, и «Триада» – книга мистическая. Речь идет не столько о ее содержании, сколько о том, какая длинная цепь случайностей сделала возможным ее появление на свет. Кто-то прикладывает руку к тому, чтобы такие цепочки возникали, – я в это верю. И теперь книга – в ваших руках. Случайно ли это?
I.
КРУЖЕНИЕ
рассказ
В сумерки, в вечер дня,
в ночной темноте и во мраке.
Притчи Соломоновы 7, 9
Круг первый. Сумерки
Вообще-то сумерки страшны: они полупрозрачные, студенистые, вязкие – как дохлая медуза. Падая на город, медуза вытесняет воздух, и людям поневоле приходится дышать ее клейстерным телом. В пряные летние сумерки некоторые умирают от удушья. Лица таких умерших искорежены ужасом…
Но описываемый сумеречный момент случился зимой, и было морозно. К тому же дядя Паша не боялся медузы: однажды летом, оголодав, он принялся жадно хапать ртом медузий студень, и голод отступил. А зимой медуза колкая и невкусная – зимой медузой не поужинаешь.
Дядя Паша озирал людей на троллейбусной остановке, и ему представлялось, что вот сейчас смерзнется медуза, и все они застынут, словно прошлогодняя жухлая трава во льду. Однако это не пугало, а веселило дядю Пашу, и он беззаботно бил оземь мягкой пятой серого валенка.
Людно на остановке, но около дяди Паши будто магический круг очерчен – пусто. Какой-то малыш сквозь варежку тычет пальчиком в центр загадочного круга, а мама зажимает пальчик в шерстяной кулак и что-то шепчет на ушко. Шепчет она долго и вдохновенно, сочиняя, вероятно, сказочку про то, почему никто не подходит к тому человеку, почему он постоянно морщит лоб и бьет ногой о снег и почему один глаз его скошен к носу. Оробевший малыш спрятал лицо в лисьем меху маминой шубы, и женщина улыбнулась: есть теперь, кем пугать непослушного.
Пока мама шептала что-то успокоительное и ободряющее, дядя Паша бочком, бочком, вывертывая одну ногу, подошел к некоему пареньку и, чуть нарочито пуская слюни, попросил оставить докурить. Паренек неторопливо сделал две затяжки и отдал сигарету, брезгливо глядя на слюну, застывшую на щетине подбородка просителя.
Как только дядя Паша докурил бычок до фильтра и поперхнулся едким дымом тлеющей ваты, подполз долгожданный троллейбус. Ехать дядя Паша никуда не собирался, а погреться бы не мешало – вот он и полез в троллейбус, набычившись и тяжко, надсадно мыча. Кучка народа у дверей мигом раздалась, внутри машины гадливо потеснились, и дядя Паша, перестав мычать, свободно поместился. «Идет коза рогатая… Му!» – что-то в этом роде подумал дядя Паша и тоненько захихикал, когда двери с лязгом съехались.
Оттотулив губы, дядя Паша жарко дышал на овальное стекло двери, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. А в его голове на разные лады пели козлы.
* * *
Окна троллейбуса были плотно обиты белыми ветвями папоротника – совсем как крышка гроба. Кто-то процарапывал глазки в ледяной флоре и получал возможность судить о внешнем мире, но таких любопытных было немного. Троллейбус, обычно весьма прозрачный и бесхитростный, нынче решил поскрытничать и мягко плыл по сумеречному городу, везя в себе неизвестный мир.
Над головой дяди Паши зашипело, затрещало, и ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Отверзшаяся дверь легонько пнула дядю Пашу, произошла обычная людская перетасовка, и он, проворно поднырнув под поручень, оказался в лучшем местечке троллейбуса (местечко с трех сторон ограничено задним окном, стенкой и поручнем; это тишайший затон при любом многолюдстве). Как не позавидовать дяде Паше?.. Сам он был совершенно счастлив.
Кстати говоря, не он один пребывал в веселейшем расположении духа: неподалеку кучковались четверо пареньков и уж так смеялись… Они казались ровесниками – шестнадцатилетними или около того; чтобы засмеяться, им было достаточно взглянуть друг на друга, а уж когда рядом возник дядя Паша… Впрочем, они очень старались сдерживаться, один даже зажимал нос, и оттого его прорывающийся смех был похож на чиханье, а другой всё приговаривал: «Тихо, парни: палимся!»
– Доброго здоровья, дядя Паша!
Дядя Паша вздрогнул, поскольку голос раздался у самого уха. «Опять встретились! – подумалось ему. – Часто…»
– Вот и опять встретились! – жизнерадостно воскликнул человек в дубленке, незаметно протиснувшийся к дяде Паше сквозь людскую гущу, и сжал его правое предплечье в том месте, где фуфаечный рукав продран и видна вата (дядя Паша гордился этим рукавом, особенно когда тянул руку за милостыней: тянет руку, а рукав продран и вата видна).
– Часто… – сказал дядя Паша, чуть погрустнев, наморщил лоб еще сильнее и пнул фанерную стенку троллейбуса.
– Не рад, что ли? – недоверчиво полюбопытствовал человек в дубленке.
– Сам знаешь. – Дядя Паша хапнул побольше воздуха и стал медленно выдыхать в стекло, едва не касаясь его губами.
– Рад, рад… – поспешно заключил человек в дубленке. – Хоть ты и злой стал с тех пор, а вижу – рад!
Дядя Паша негромко, страдальчески замычал.
– Ведь тебе как этим паренькам тогда было, столько же? Ладно, прости, не буду напоминать, прости…
Лед под дыханием дяди Паши плавился.
– А ведь мне сейчас любопытная мысль в голову пришла. Лет шестнадцать назад ты бы заревел от восторга, ты любил такие мысли, философствовал всё… Короче, слушай. В троллейбусе люди говорят так же свободно, как наедине. Других они считают чем-то вроде мебели. Ведь любопытно же! Здесь можно подслушать гораздо больше, чем, к примеру… я уж не знаю, где. И открыто, без ухищрений! Как тебе, дядя Паша?
Дядя Паша сосредоточенно дышал в стекло. Человек в дубленке резко припал к его уху и быстро зашептал:
– Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься… Ведь я интересные вещи говорю, а ты не дурак, ты ведь отличником был – зачем злишься? Посмотри на тех пареньков: они же не просто так хохочут. Нарики, накурились травки и ну ржать! Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший… Слушай!
– Ну прям, любопытнейший! – скептически произнес один из смехачей.
– Это ты к чему? – поинтересовался второй.
– Да вот, сказал кто-то, что у нас разговор любопытнейший.
– Ты гонишь! – убежденно заключил второй. – Докажь ведь, Леш. Ну вот… Так что ты, чувак, совсем. Тебя глючит уже. Кто мог сказать – этот бомж, что ли? – И паренек заразительно расхохотался.
Остальные зараженно заржали следом, но третий (Леша, которого просили доказать, что никто ничего не говорил) вдруг замолк и прошептал страшным шепотом:
– Тихо, парни: палимся!
– Палимся! – передразнил четвертый. – А кто всех зазвал в троллейбусе покататься? Палимся, ха-ха-ха!
Пугливый хохот вновь чертиком проскакал по головам парнишек и притаился. Они продолжили переговариваться.
– А знаете, парни, где сегодня самая крутая тусовка?
– Где всегда…
– Нет, сегодня в церкви.
– В натуре: сегодня в полночь там все наши соберутся.
– Прикиньте, парни, дискотеки позакрывают, тусоваться разрешат только в церкви. Прикиньте, колокольный звон такой, диджей Поп и все пляшут, отрываются…
– Не хрена гнать: Бог накажет.
– Вообще-то, правильно. Не зря же в фильмах показывают монстров всяких из ада или там как душа убитого ходит и всех мочит. По ходу, есть Бог.
– Ну вот и не хрена гнать.
– Не, я понять хочу, как меня Бог наказать может. Демоны, что ли, сюда припрутся и сожрут? А?
– Ну охота вам базарить о таком бреде?
– Не, я понять хочу.
– А что, пойдем сегодня в церковь!
– Пошли. Там все наши и диджей Поп – прикольнемся.
– Ты, Леш, с нами?
– Нельзя мне, я некрещеный.
– По хрену, я тоже некрещеный. Есть здесь крещеные? По ходу, никого… Серый, фиг ли ты тогда: «Бог накажет…»? Пошли-пошли, подзарядимся божественной энергией…
– Подзарядимся… Ха-ха!
– Ха-ха-ха!
– Тише, парни: палимся!
Пареньки ненадолго примолкли.
– Вот такие дела, дядя Паша… – прошептал человек в дубленке. – Страшно это, страшно…
– У них бесенок по макушкам скачет, – заинтересованно заметил дядя Паша. – Как обезьянка – и мордастенький такой…
– Это бывает, дядя Паша. Это ничего…
– Он их съесть хочет… Пускай, нечего смеяться… Хвостатенький…
Внезапно салон троллейбуса пропитался мутным унылым светом; желтоватенький свет чем-то напоминал дешевые столовские щи. Кое-где в продолговатых светильниках, грязных изнутри, не хватало лампочек, и такие их участки были омертвело-темными. Светильники эти всегда казались дяде Паше живыми – кем-то вроде светляков, которыми унизаны травинки в болотистой местности. Вообще, дядя Паша мало кого жалел, а вот троллейбусных светляков с омертвелыми темными телами ему было жаль – хоть плачь. Он был уверен, что их придавили.
Дядя Паша порывисто обернулся. В одном из светильников, видных ему, не хватало лампочки, и дядя Паша, болезненно скривившись, уткнулся в слепое окно.
– Светляков жалко? – участливо поинтересовался человек в дубленке.
– Подранок есть, – сказал дядя Паша. – А остальных не тронули. Может, оклемается…
– Не понимаю я тебя: светляков тебе жаль, а к людям равнодушен. Их вот, к примеру, бесенок собирается сожрать, а тебе всё равно.
– Они пусть сами думают… Им весело, а подранку больно… – И тут он вдруг насмешливо глянул в лицо собеседнику, будто разгадал какую-то каверзу. – Зачем ты?.. Ведь людей здесь не-эт!..
– Странный ты, дядя Паша, – задумчиво молвил человек в дубленке. – Но я тебя люблю.
После этого он надолго замолк.
– Задняя площадка, оплачиваем свой проезд! Проездные предъявляем! Вижу… Студенческий с собой? Вижу… Я вас немножечко потесню… Хорошо. У вас что? Два? Вот сдача. Вижу…
Кондукторша продвигалась неторопливо, энергично и неумолимо – как ледокол. Приходилось только удивляться, каким образом ее массивное полногрудое тело проникает сквозь людские дебри. Словно космическая ракета, кондукторша разогрелась от трения: ее мясистое лицо взмокло, и она, приостановившись на мгновение, отлепила ото лба прядь русых волос и упрятала под шарообразную шерстяную шапку.
– У вас что? – обратилась она к четверке смешливых пареньков. – Предъявляем, не ждем.
Смехачи переглянулись, будто не понимая, чего от них хотят, и внимательно посмотрели на кондукторшу.
– А чего она такая потная? – поинтересовался один и тотчас же зажал нос пальцами, запирая подкатившее хихиканье.
– Из бани, – предположил другой и расхохотался.
– С легким паром! – поздравил третий сдавленным голосом и заржал.
Четвертый ничего не смог вымолвить, он лишь уперся лбом в заиндевелое стекло и затрясся, как от рыданий. Его лицо перехватило судорогой, точно невидимой повязкой, которую всё затягивали и затягивали.
На счастье пареньков, троллейбус остановился, двери разъехались, и они, не сговариваясь, сиганули вон и уже на остановке корчились от хохота, будто их кто под дых ударил.
– Вот ведь хулиганье! – возмущенно воскликнула кондукторша и, погладив хвост талонной ленты, спросила убыстрившимся и погрубевшим голосом: – У вас что?
Дядя Паша с важностью достал из кармана фуфайки проездной и предъявил.
– Школьный?! – прошипела кондукторша, пятнисто краснея и утирая пот. – Сколько тебе лет-то, школьничек?
– Шестнадцать, – спокойно ответил дядя Паша и убрал проездной.
– Не, вы гляньте! – чуть ли не завопила она. – Шестнадцать лет ему! Бесстыжий! Да тебе два раза по шестнадцать, ты мне ровесник!
И тут странное выражение проявилось на гневном, разгоряченном лице женщины. Она замолчала, чуть ухмыльнулась, и дяде Паше показалось, что, прежде чем уйти, она подмигнула ему. У человека в дубленке кондукторша проездного не спросила.
– Действительно, странно… – задумчиво пробормотал человек в дубленке. – Зима, а она потеет… Почему ты, кстати, сказал, что тебе шестнадцать? – спросил он, точно спохватившись.
– Не знаешь как будто! – проворчал дядя Паша, болезненно скривившись. – В шестнадцать я умер. Жил-жил и умер. А то, что взрослый теперь, – это мне наказание.
– Извини, дядя Паша, я запамятовал, – с серьезным сожалением молвил человек в дубленке.
А дядя Паша, оттотулив губы, жарко дышал в стекло, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. Он почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве.
* * *
– За тетю Ма-ашу… Молодец! За дядю Серё-ожу… Умничка! За бабу Ка… Не хочешь за бабу Катю? Как не стыдно – она тебя пирожком угощала… Давай-ка, родной! За бабу Ка-атю… Вот так. А последнюю ложечку за мамочку, за ма-амочку… Вот и покушали, а говорил не съешь. Утри ротик!
Мамочка счастливо улыбалась и, откинувшись на спинку стула, наблюдала, как Пашенька утирает ротик белой матерчатой салфеткой и обеими ручками отодвигает тарелку с крупинчатыми мазками манной каши на бледно-голубом орнаменте. Иной раз, глядя на сытого сынулю, мама плакала спокойными, привычными слезами – не задыхалась, не била себя в грудь, не всхлипывала даже, а лишь плакала и улыбалась. Мама никогда не предлагала Пашеньке ложки за папочку, а тетя Маша, и дядя Сережа, и баба Катя были всего лишь соседями по коммуналке – хорошими, правда, соседями. Они жалели мамочку, предлагали что-то, непонятное Пашеньке, – познакомить ее с кем-то, но она отказывалась и только плакала, глядя на сытого сынулю.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был белым – цвета манной каши и салфетки.
Прикрывая ладошками клетчатые листки бумаги, дети слюнявили цветные карандаши и напряженно рисовали что-то, скрытое ото всех. Закончив, они крепко прижимали рисунок к груди и бежали к воспитательнице – главному цензору и искусствоведу. А та хвалила – почти всегда хвалила, разве что могла обмолвиться иной раз, что трехногих собак не бывает. И вдруг она вскочила со стула с каким-то рисунком в руках и гневно воскликнула:
– Смотрите, дети!
Пашенька, как и остальные детсадовцы, посмотрел: оказалось, что один мальчик черным карандашом начертил большую загогулистую свастику.
– Смотрите, дети! – гневно воскликнула воспитательница и разорвала рисунок. Позже Пашенька думал, не договорилась ли воспитательница с тем мальчиком: ну кому захочется по собственной воле изображать свастику?
Сам Пашенька рисовал хорошо. Особенно ему удавались богатыри: на коне, с мечом-кладенцом или копьем, они кололи драконов в брюхо или рубили им головы. Воспитательница не раз поручала Пашеньке копировать простенькие рисунки из какой-то заветной книжечки, что было очень почетно. Один из них хорошо запомнился: воздушный бой, фашистский самолет, разорванный взрывом надвое, словно он был бумажным, и наш самолет-победитель. Пашенька скопировал всё очень похоже и тщательно закрасил клетчатое небо голубым карандашом, хотя этого и не требовалось.
Когда детсадовцев выводили на прогулку, Пашенька часто смотрел в небо каким-то вопрошающим взглядом. Затем его забирала мама. Она уже не плакала непонятно о чем, а подолгу молилась.
– Эх, ушла бы я в монастырь, да на кого я тебя, родимого, оставлю? – иногда тихо говорила она, поднимаясь с колен. – Мой грех в монастыре отмаливать надо!
Это лоскуток воспоминаний о детстве был голубым – цвета неба, нарисованного и настоящего.
А небо было всё тем же – голубым и нестерпимо ясным. Голые деревья, росшие вдоль дороги, окунали в него ветви и походили на дворницкие метлы. Деревья орали по-грачиному. Паша семенил ножками, держась за мамину руку, задирал голову и слушал грачей. Дорога вела в церковь.
Наконец на ликующем небесном фоне прорезался тусклый позолоченный купол, и он показался Паше каким-то несчастным, обездоленным. Внутри храм был того же цвета, что и купол, – золоченым, но словно вылинявшим, а бледновато-желтые священнические ризы выглядели довольно поношенными.
Но началась служба, и всё для Паши преобразилось: слова молитв, как сказочные заклинания, превратили унылую церковь в чудесный дворец, окружающее стало величественным и чарующим. «Так вот куда меня мама привела! – восхищенно подумал Паша. – Здесь хорошо и весело, это всё равно, что смотреть на небо…»
Служба закончилась, прихожане поцеловали крест и тихо разошлись. Неумело крестясь и кланяясь храму, Паша заметил, что купол с восьмиконечным православным крестом сияет ярко-ярко в лучах солнышка. Мальчик улыбнулся понимающе-хитровато и пошел восвояси вслед за мамой.
– Ма, а церковь грустная, ненарядная такая – это ведь для маскировки? Ну, как на войне, чтобы враги не заметили? – все приставал он дорогой, и мама, улыбнувшись, согласилась.
Раньше мама лишь крестила Пашу на ночь, а в тот день он прочитал «Отче наш» и «Богородицу», повторяя вслед за ней. Лежа в постели, мальчик сквозь ресницы смотрел на коленопреклоненную маму и думал, что вот сейчас она поднимется и вновь прошепчет про свой грех и про монастырь. Но она поднялась молча, со следами от слез и потушила настольную лампу.
«Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!» – подумал вдруг Паша и тихо заплакал.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был желтым – цвета церковного купола и солнышка.
– Я, пионер Советского Союза… – начала вожатая громко и сурово.
– Я, пионер Советского Союза… – хором повторили дети, выстроенные на мощенной булыжником площади. Было что-то жутковатое в этом хоровом «я».
– …перед лицом своих товарищей торжественно обещаю… – продолжила вожатая еще суровее.
Дети послушно повторяли, а памятник кому-то бородатому, возвышавшийся за ее спиной, смотрел на посвящающихся каменным взглядом. Он казался именитым гостем, специально приглашенным по такому случаю.
Паша, слегка утомленный строевым походом к площади, облизанный шаловливым весенним солнышком, разморенный, машинально повторял вызубренную клятву и улыбался. Когда дети закончили клясться, Паше показалось, что памятник чуть кивнул головой.
И тут к посвященным по команде бросились, кинулись, ринулись старшие пионеры и с ловкостью профессиональных душителей накинули на их шеи треугольные алые галстуки и стянули узлом. Так Паша стал пионером.
Он вернулся домой усталым и радостным, хотя после посвящения был задумчив и чуть ли не хмур. Он чувствовал себя не вполне достойным пионерского галстука, но смолчал, когда накануне учительница спрашивала об этом у класса. «Ничего, я заслужу!» – решил Паша и вспомнил слова клятвы об уважении к старшим. «Ничего, я заслужу!» – весело повторил Паша мысленно и припомнил, что на исповеди священник говорил ему о почитании родителей.
– Заслужу – заслужу! – пел он, взлетая по лестнице на четвертый этаж…
Паша вернулся домой усталым и радостным. Из общей кухни умопомрачительно пахло пирогами с вареньем – расстаралась мамочка. Он нежно улыбнулся, скинул ботинки и тихо вошел в комнату. Мама, отдыхая после готовки, сидела за столом и читала Евангелие. Мальчик показал галстук, порадовался маминой радостью, сходил выпить кипяченой воды и возвратился серьезным и торжественным.
Мама выжидательно смотрела на него.
– Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама! – тихо и твердо вымолвил Паша давно продуманное.
Мама посмотрела на него каким-то переливчатым взглядом: сперва недоверчиво, потом радостно, затем испуганно; она смотрела долго-долго и наконец заплакала.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был алым – цвета пионерского галстука.
Дядя Паша почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве: вот лоскуток белый, вот голубой, вот желтый, вот алый… Дальше он вспоминать не хотел.
– Послушай-ка, дядя Паша, – внезапно обратился к нему человек в дубленке. – А ты никогда не задумывался, отчего священники в соборе такие нарядные? Они то в белых ризах служат, то в голубых, то в желтых, то в алых… А монахи всё время в черных, черноризники! Отчего так?
– Думать, что ли, больше не о чем?.. – пробормотал дядя Паша.
– А может, и не о чем, – произнес человек в дубленке загадочным тоном. – Я, может, в этом году в монастырь ухожу.
– Ты?! – завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.
– Я! – самодовольно подтвердил человек в дубленке. – Говори, пожалуйста, потише.
Вдруг где-то поблизости зашипело, затрещало и громкий ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Троллейбус замкнул круг.
Круг второй. Вечер дня
Троллейбус замкнул круг, остановился и неловко, жалко открыл дверные створки, словно ушибленные лапки поджал. Дядя Паша обернулся, отступил на шаг в сторону и вгляделся в прямоугольник внешнего мира. А вовне из тончайших, чуть заметных сумеречных волокон уже соткался добротный пуховый платок вечера. Небо, еще чуть освещенное откуда-то снизу, было густо-фиолетовым и почти беззвездным.

