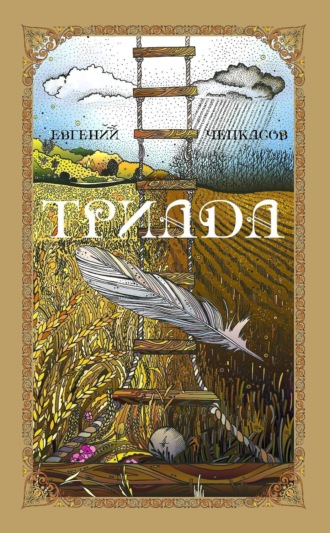 полная версия
полная версияТриада
Девушки на скамейке вновь хихикнули, затем спросили о счете и перебрались на качели, объяснив, что, во-первых, не хотят мешать мужскому разговору, а во-вторых, мало ли…
– Видишь – нас уже боятся, – прокомментировал Степа не без удовольствия.
– Приятно, – согласился собеседник, помолчал, наблюдая за игрой, и изрек: – А ведь завтра экватор.
– В смысле?
– Середина срока. Завтра понедельник, мы приехали на этой неделе в понедельник, а уедем в понедельник через неделю.
– Это сегодня, значит, воскресенье… – пробормотал Степа, загибая пальцы. – Точно, завтра уже экватор. Быстро как!
– А мне уже почти надоело.
– Ну, без девушки – само собой, скучновато.
– Может, и из-за этого, – согласился Миша, – но, по-моему, прошлые две смены лучше были. Да и дети еще эти – всё равно что-то не то…
– Насчет детей – согласен: дискотека из-за них строго до одиннадцати и директриса поглядывает. Но всё-таки смена неплохая, ты зря. Если с девушкой – то просто замечательно.
Раздался визг и хлопанье ладонью о ракетку: это Лена радовалась победе, а Гриша, сложив оружие, спросил:
– Кто следующий?
Одна из девушек сорвалась с качелей и подбежала к зеленому столу, а Гриша занял ее место и заговорил с другой девушкой.
– Да он стратег и тактик! – восхитился Степа.
– Ему бы звездочки на себе рисовать, как на истребителе за подбитые самолеты! – раздраженно произнес Миша.
– А скольких он примерно «подбил» за неделю?
– Не знаю. Но раза два мне приходилось гулять.
– Да, Гриша монстр. Гена вон тоже времени зря не теряет.
– Какой Гена?
– Здрасьте! Живем под одной крышей.
– А, рыбачок в смысле… И что он?
– Да вон он, посмотри – с тремя сразу… Одна из них, кстати, – твоя Света.
– Мне это, знаешь ли, глубоко по хрену. Она уже не моя Света, да и вообще, ей же тоже нужна компания.
– Кто ж спорит?.. – молвил Степа, лукаво улыбаясь.
– Какая, кстати, из тех двух его девушка? – небрежно осведомился Миша.
– Я и сам, честно говоря, думал об этом. Есть три варианта: либо одна из них, либо обе, либо никакая. Первый вариант наиболее вероятен, однако и он не дает ясного ответа на поставленный вопрос. Между тем…
– Слушай, заткнись, что ли…
– Между тем, – продолжал Степа, внимательно выслушав пожелание собеседника, – есть один человек, который может знать весьма точный и обстоятельный ответ. Человек этот живет с ними в одной палате и в данный момент направляется к нам.
– Вижу, – мрачновато сказал Миша. – Лучше бы она мимо прошла…
– Вы как дети, честное слово, – усмехнулся Степа.
– Кто последний? – спросила подошедшая Света.
– Гриша, но ему, похоже, не до тенниса. Если так оно и есть, то последний у нас Миша. Садись, Светик, рядом… Логичнее было бы рядом с Мишей, но дело твое. – Красноречивый Степа сделал паузу и продолжил: – У нас тут возник спор насчет Гены. На кону – бутылка пива, и только ты можешь этот спор разрешить.
– Я?
Миша поморщился, но смолчал.
– Конечно, ты, – ответил оратор, обрадованный Мишиным молчанием. – Суть вот в чем: один из нас утверждает, что девушкой Гены является эта, коротенькая, Оля, кажется, а другой, соответственно, уверен, что девушкой Гены является высокая и длинноволосая Валя. Ты живешь с ними в одной палате и должна знать.
– Оба вы проиграли, – сказала Света. – С Олей у него точно ничего нет, это девушка его друга, а с Валей – тоже ничего, по крайней мере, пока. Они просто в одной группе в университете учатся, друзья, хотя кто их знает… Но то, что пока между ними ничего нет, – точно.
– Получается, что пиво выиграл Гена, – срезюмировал Степа. – Но мы ведь ему не скажем, правда?
И заговорщицки подмигнул.
– А о чем же он с ними тогда говорит всё время? – спросил Миша сипловатым голосом и кашлянул, подумав при этом: «Ну и вопросец!»
– А он и не говорит, – очень живо ответила Света. – Он с ними в студенческую балду играет.
– С этого места попрошу подробнее, – встрял Степа.
– Студенческая балда – это очень умная игра, я долго не выдержала. А они филологи, для них это самое то.
– Ну а правила там какие? – спросил Миша уже свободнее, действительно заинтересовавшись.
– В общем, так. Загадывай слово.
– Загадал.
– Говори первую букву.
– «Эс».
– Теперь я спрашиваю: это, случайно, не хирургический инструмент?
– Нет, не хирургический инструмент.
– Не так! Ты должен отвечать: нет, это не… и говорить то слово на «эс», которое я имела в виду. А если ты его назвать не можешь, то говоришь следующую букву.
– Круто! – оценил Миша. – Нет, это не скальпель.
– А это, случайно, не хлебобулочное изделие? – спросил Степа.
– На «эс»?!
– Да. Если не знаешь – букву.
– Погоди… И что это за изделие?
– Сайка.
– Согласен. «У».
– Су…? – спросил альбинос весьма удивленно, словно желая удивленностью подсказать что-то…
– Су, – подтвердил Миша и подумал, что Степа догадлив и что слово лучше заменить на более длинное и нейтральное, например, на «сударыню», подумал, что игру портить не стоит, что игра хорошая и Света молодец, что принесла ее, да и вообще не такая уж она…
– А это, случайно, не устаревшее обращение к женщине? – спросила Света.
– Да, – изумленно согласился Миша. – Это «сударыня». Как ты догадалась?
– Случайно, – сказала обрадованная девушка. – Обычно играют дольше. Теперь я загадываю.
Играли до дискотеки, и вечер, темноликий луноглазый эфиоп под сумеречной вуалью, пришедший-таки и отобравший книжки, ракетки и карты, не был властен над их игрой, к которой чуть позже присоединилась и Степина Лена. Когда загрохотала дискотека, объявились и тощий Олег с толстощекой Ириной, сначала игравшие в бадминтон, а затем где-то уединенно пропадавшие. Все отправились танцевать.
Словно загипнотизированные ритмом ударников, студенты стягивались к длинному одноэтажному зданию, над одной из дверей которого было начертано «Столовая», а над другой – «Клуб». В клубе, где вспыхивала и гасла цветомузыка, где надрывались две большие колонки, стовшие на сцене, и где сидел за пультом ди-джей в наушниках, снисходительно взиравший на танцующих, – было интересно. Самым интересным для постороннего наблюдателя могло показаться то, что студенты отнюдь не танцевали, а сидели вдоль стен, улыбчиво, печально или озлобленно глядя на юных танцовщиц. Дети плясали с явным наслаждением, умилительно и не без изящества – всё-таки гимнастки, однако взрослые дяди и тети были вынуждены страдать, сидя под музыку.
Наконец несколько девушек (четыре, кажется, – нет, уже пять, шесть, семь…) не вытерпели, поднялись с мест, встали в кружок и принялись танцевать. Табу было нарушено, и вскоре гимнасток затерли и вытеснили – началась взрослая дискотека с прерывистым, вспыхивающе-подмигивающим и таким понятным телесным разговором. Времени на дискотеку оставалось мало, совсем мало, и студенты танцевали с тем же предпотопным торопливым весельем, с каким они играли до прихода вечера.
Медленных танцев, кратко называемых медляками, было всего два, но во время первого из них Света, так гибко и откровенно танцевавшая быстрые композиции, куда-то исчезла, и Мише пришлось сидеть на лавочке, как сидел этот рыбачок. Зато на второй танец, завершавший дискотеку (Гена, услышав об этом, пошел домой), – на второй медленный танец Миша Свету пригласил. Во время медляка Миша размышлял о словах Шарля Бодлера, сказавшего, что «соитие – поэзия простолюдинов», и соглашался, что настоящая поэзия, творчество – неизмеримо выше, выше, еще выше… А Света танцевала старательно, используя маленькие женские хитрости, способные заставить любого мужчину возжелать продолжения танца, и если о чем-то и думала, то явно не о Бодлере.
После медляка Миша на минутку оставил Свету, поспешно подошел к Грише, что-то сказал ему, дождался ответа, кивнул и торопливо вернулся к девушке. По заверению ди-джея, танец был последним, но студенты просили, требовали, возмущались, указывая на часы, и польщенный распорядитель бала сдался.
– По многочисленным просьбам трудящихся, – благодушно произнес он, – нашу дискотеку завершает зажигательная…
Но Миша и Света уже не слушали: счастливый девичий визг и последующий быстрый хит рвали сосновую ночную тишь где-то за их спинами и всё удалялись, удалялись, становились тише пульса…
– Ну, ты погоди, ты послушай, бежать-то зачем? Не успеем, что ли?
– Я и так неделю потерял…
– Ой, а у вас окно светится.
– Светится… Это у рыбачка – принесло его…
– Слушай…
– Да ладно тебе – пусть крючки привязывает… Потише тут… Вот здесь я и живу.
– А с ке-эм?
– С Гришей.
– А если он…
– Ничего, погуляет, я предупредил. Вот и на крючок закрыл… Светка…
– А кровати – с сеткой, на весь лагерь будет… Твоя какая?
– Нам сюда, я свихнусь с тобой…
– А он ведь прямо за стенкой?.. Погоди… Да погоди же…
– Что?
– Ему же всё слышно…
– Ну и хрен с ним! Пусть…
Следующее слово Миша шепнул Свете на ухо, и она расхохоталась, а Гена, до этого невидяще смотревший в книгу, положил томик вверх переплетом и заткнул уши пальцами.
* * *
Утро понедельника было обычным: зеленая стена со знакомыми пупырышками краски и несколькими встывшими волосками от малярной кисти; затем – белый потолок (если смотреть долго, то потекут слезы); потом – скрипкий хруст кроватной сетки и заоконные долгие рыже-зеленые сосны на фоне пронзительно-синего неба. После было поспешное облачение в холодную одежду, радостные утренние молитвы, прихорашивание постели, поход к умывальне, восхищенный взгляд на лужок, с которого еще не сошла роса: чуть ближе – сияюще-бриллиантовая, а чуть дальше – матово-снежная. К зуболомно-ледяной воде, вяло льющейся из крана, Гена Валерьев успел притерпеться, теперь она только бодрила, и вот – юноша уже возвращается в зеленый домик, помахивая пакетиком с умывальными принадлежностями.
– Доброе утро, Гена!
– Доброе утро, Степа.
– Как водичка?
– Бр-р!
– Понятно. На рыбалку идешь сегодня?
– Да, надо еще червей накопать.
«Надо накопать, – мысленно повторил Гена, снимая с пожарного щита красночеренковую штыковую лопату, – а до завтрака полчаса». И он пошел на зады лагеря, обращенные к деревне: там, за крапивными зарослями и кучами мусора, было грязное русло высохшей речушки. Добравшись до места и стараясь не ступить в грязь, юноша стал копать жирную черную землю, разламывать земляные комья, издырявленные червячьими ходами, выбирать крупных и средних, ленивых и юрких червей и складывать их в белую баночку из-под зубного порошка. Кровожадные комариные эскадрильи с отчаянным жужжанием атаковали копаря, а тот стряхивал, сдувал и давил вампирок, но силы были явно неравными, и Валерьев воскликнул: «Хватит!» – подразумевая то ли оптимальное количество червей, то ли предел человеческого терпения, после чего сыпанул в коробочку немного земли, закрыл крышкой и с лопатой наперевес спешно ретировался. В тот момент, когда он с наслаждением мыл грязные искусанные руки, позвали завтракать.
Молчаливые и неизменные, словно этот сушеный цветочный веник в центре стола, Олег и Ирина уже приступили к еде. Гена пожелал им доброго утра и приятного аппетита, на что получил не менее вежливые ответы. Завтрак был, как всегда, вкусен, и Валерьев, предварительно мысленно помолившись, оголодало расправился с ним. Юноша ел торопливо не только из-за голода: он поминутно смотрел на часы и чувствовал себя стрелой, упершейся в натянутую тетиву лука и готовой ринуться к цели, а пока лишь предвкушающей сладостный пронзительный полет. Еще Гена представлял себя рыбой, голодной рыбой, на которую на утренней зорьке напал жор и которая жадно хватает всё, что ни попадя – прикормку, наживку на крючке, крючок без наживки… А утренняя зорька уже отцветала, а цель всё удалялась, так что стрела могла и не долететь до нее… Гена вскочил со стула, отнес к мойке опустевшую тарелку и стакан, попутно читая благодарственную молитву, и рванул на рыбалку.
По правую руку тянулся веселый сосняк, по левую стлалось поле с буренками, над головой висели бисквитные облака, солнце глядело в лицо и ослепительно улыбалось, а ветер затаил дыхание. Гена тоже улыбался, щурясь на солнышко, слушая сбивчивую шепелявую скороговорку кузнечиков, вдыхая дивный воздух, – улыбался и был абсолютно, беспредельно счастлив. Не в силах нести далее это счастье в одиночку, юноша положил удочку на тропинку, огляделся и, никого не заметив, встал на колени рядом с обочиной, перекрестился и поклонился, коснувшись лбом сочной прохладной травы.
– Слава Тебе, Господи! – благодарно прошептал Валерьев и внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Мгновенно вскочив и быстро посмотрев окрест, он так никого и не увидел, но в наличии соглядатая не усомнился, подхватил удочку с пакетом и торопливо зашагал дальше.
«Только бы не из лагеря!» – стыдливо подумал Гена и чуть успокоился, лишь когда тропинка под острым углом проколола кромку леса, будто игла шприца кожу, и вместе с пешеходом скрылась от любопытных глаз. А Миша Солев, совершавший небольшую пробежку по параллельной лесной тропинке, да так и застывший от изумления, очнулся, развернулся и потрусил к лагерю, взволнованно размышляя: «А ведь это прототип! Это для моего рассказа, для моего героя прототип! Православный, нет девушки – надо понаблюдать за ним…»
Но в данный момент Миша и Гена шли в противоположные стороны, никто ни за кем не крался и не подсматривал, никто ни о ком не писал. Через некоторое время Солев думал уже не о прототипе, а о том, что киоск, наверное, открылся и надо непременно поставить примирителю Степе полторашку пива и переселить Свету в зеленый домик, а Валерьев, успокоенный окружающей благодатной красотой, почти забыл о межлопаточном уколе нескромного взгляда. Вскоре Миша достиг железной ограды «Кометы», глянул по сторонам и довольно ловко перелез, а Гена восклонился от муравейника, поспешно стряхивая с ладони насекомых, прижал ее к носу и вдохнул обжигающий запах. Юноша издал тот смачный гортанный звук, который незатейливые романисты почему-то называют кряканьем, проморгался, поднял с тропинки рыболовецкие атрибуты и продолжил путь к чудесному озеру.
Валерьев спешил, подумывая о том, что рыбалка, наверное, будет удачной из-за безветрия и облаков, что встать надо на том же месте, где и позавчера, или правее: там прикормлено и дяденька с телескопической удочкой таскал неплохих карасей. Но тропинка с курганчиками кротовин, с обилием ужей и крохотных древесных лягушек, ведущая к знаменитому озеру через лес, пронизанный птичьими трелями и дятловым долбежом, – эта тропинка могла быть пройдена не менее чем за полчаса. А поскольку нельзя столько времени думать лишь о предстоящей рыбалке, мысли Гены, карабкавшиеся в будущее по временной оси, расслабились и стали съезжать в прошлое.
Так на Масленицу полуголые мужчины карабкаются по обледенелому столбу, желая достать до вершины и получить за этот подвиг живого петуха, но добираются лишь немногие, а большинство досрочно съезжают на снег под улюлюканье зевак. Спустившись, лазуны поспешно одеваются и жадно пьют водку, если не выпили до того, но мысли Валерьева, тихо скользящие вниз по временной оси, были, в отличие от масленичных мужчин, абсолютно трезвыми.
Сначала ему вспомнилась вчерашняя литургия в деревянной деревенской церкви с молодым священником, неспевшимся клиросом и десятком прихожан. Покупая восковую, настоящую восковую свечку, Гена увидел замечательную подборку богословских книг и пожалел, что нет денег. После службы, поцеловав крест и взяв благословение, он вернулся в лагерь, и воскресный день стал неотличимым от предыдущих.
Обычно юноша приходил с рыбалки незадолго перед обедом или во время обеда, заносил домой удочку и улов, мыл руки, ел, занимался засолкой (глубокая тарелка – слой соли – слой рыбы – слой соли – мелкая тарелка – сверху кирпич), а затем отправлялся развлекать Олю и Валю. Программа развлечений была довольно скудной: бадминтон, студенческая балда и немногословные запинчатые разговоры, оканчивающиеся всё той же студенческой балдой.
Однако предпринималось несколько попыток разнообразить программу: однажды Валерьев предложил сделать для кого-нибудь удочку, поскольку снасти наличествовали, но оказалось, что Валя Велина боится червей, а Артуркина Оля предпочитает идти купаться вместе со Светой и приглашает Гену. Он же идти на пляж отказался, поскольку рыбалка, конечно же, лучше, поскольку плавает он не шибко хорошо и поскольку при его худощавом телосложении раздеваться прилюдно было бы просто стыдно. Между тем до озера шли все вместе, и юноша с маниакальной настойчивостью пытался пристрастить трех спутниц к такому приятному и полезному занятию, как нюхание муравьиного спирта. В пылу проповеднического азарта он даже поднес проспиртованную ладонь к носу Велиной, и Валя осторожно понюхала и закашлялась, чем вызвала у Валерьева необоснованный восторг, сопряженный с некоей внутренней дрожью от того, что Гена мимолетно коснулся мизинцем ее губ.
Иных поползновений в сторону Вали юноша не совершал, а если и совершал, то теперь, шагая в одиночестве к изумительному озеру, он не мог их припомнить. Разумеется, ему хотелось по меньшей мере пригласить ее на медляк, но она не ходила на дискотеки, да если бы и ходила, он навряд ли решился бы. Хотя танцует она, наверное, хорошо: это видно по тому, как она в бадминтон играет, – гибкая, весьма гибкая… А вот с Олей Гена пару раз танцевал, и неплохо – не зря он в танцевальную школу ходил, так что на ногу не наступил бы. С Олей танцевать безопасно: она Артуркина, – и всё-таки не по росту, вот Валя по росту подошла бы идеально…
Валерьев едва успел отскочить в сторону.
– Глаз, что ли, нету? – возмутился велосипедист, столь же резко сруливший с узкой лесной тропинки.
К продольной велосипедной раме были примотаны изолентой бамбуковые удочки, и человек в штормовке, видимо, из чувства профессиональной солидарности, не стал развивать тему, а вскочил в седло и покатил далее.
«Нормальные рыбаки уже с озера едут», – подумал юноша, и его мысли, подобно ручью, потекли к обширному водоему, в котором плавают еще не пойманные рыбы.
Вскоре явился и сам водоем с несколькими пляжами, лодочной станцией и великим множеством рыбачащих и купающихся. Через несколько часов Гена уже сматывал удочку, выливал воду из полиэтиленового пакета с уловом (зеркальный карпенок и несколько карасиков еще трепыхались) и, рискуя свалиться в озеро, смывал с ладоней черную коросту, образованную червячной землей и рыбьей слизью. Когда он вернулся в лагерь, Олег и Ирина выходили из столовой.
– Моя порция осталась? – запыханно спросил Валерьев.
– Да, – ответили сытые соседи по столику. – Иди скорей.
Отобедав, Гена первым делом разобрался с рыбой. В его комнате висел довольно крепкий соленый запах, так что юноша поморщился и открыл форточку, после чего извлек из тарелочно-кирпичной конструкции (рядом стояло еще две такие) улов трехдневной давности и нанизал его на кордовую нить, где висело уже около десятка рыбок. Прокалывая иглой глаза новых рыб и продвигая каждую по заскорузлой нити, рыбак вспоминал, как они клевали, как он подсекал и тащил, как они бились в пакете, – теперь они казались гораздо меньше, чем тогда. Нынешний улов юноша вымыл, засолил между теми же тарелками, поставил под кирпичный гнет и, облегченно шумно выдохнув, пошел читать на качели.
Читать интересную книгу после обеда очень приятно, особенно на качелях, вокруг которых ходит на цыпочках ветер и, заглядывая через плечо, тоже читает, читает быстро и иногда пытается перевернуть страницу, но тут уж воли ему давать нельзя – подождет. Гена читал с наслаждением, но всё-таки заметил, что на соседние качели села бледненькая девочка лет восьми, с косичками и в розовеньких тапочках. Он улыбнулся и продолжил чтение, но вскоре услышал, что девочка что-то очень тихо напевает. «Интересно, что за песенка?» – подумал Валерьев и вскоре расслышал несколько слов, настолько поразительных, что пришлось смотреть мимо книги. Слова эти были «смоковница», «лоза» и «маслина». Постепенно девочка стала петь громче, еще громче, во весь голос, и юноша не только услышал, но и поневоле запомнил многократно повторявшуюся песенку. Вот она:
Если б смоковница не расцвела,
И плода не дала лоза,
И маслина изменила,
И нива пищи не дала,
Если б не стало овец
И опустел мой загон… —
здесь детский протяжно-грустный голосок, исчисляющий условные беды, делал паузу и продолжал быстро и радостно, хотя и с явным нарушением в области синтаксиса:
И тогда – пам, пам! —
И тогда я буду ликовать,
Петь о моем Боге,
И тогда я буду ликовать
О Боге спасенья моего…
– после этого мелодия вновь менялась, и двукратно пелись завершающие строки:
Господь мой, сила моя,
Крепкими сделает ноги мои
И на высоты мои
Он возведет меня! —
мелодия последних строк напомнила Гене пасхальное «Христос воскресе из мертвых…», еще большее сходство чувствовалось в настроении, однако юноша поспешно осекся, подумав: «Но это не «Христос воскресе…», это не Православие». А между тем девочка вновь пела про смоковницу, даже не переведя дыхания после окончания песенки.
«А ведь она для меня поет! – понял вдруг Валерьев и положил книгу на колени обложкой вверх. – Она проповедует!»
Он расплывчато улыбался и ему хотелось плакать от странной помеси умиления, жалости и страха. «Младенец – и уже искренне верит в Бога, младенец – и уже в секте, младенец – и уже использует вполне сектантские методы: я ведь уже запомнил эту песенку, против воли запомнил, она мне ее попросту вдолбила… А от негативной реакции она защищена своим же младенчеством…»
Девочка вдруг встала с качелей и ушла, не глядя на Гену. «Господи, помоги ей дорасти до Православия! – попросил он, и мысли его перекинулись на Валю Велину: – Может, эта девочка тоже свидетельница Иеговы: песенка вполне ветхозаветная. Интересно, чем они занимаются, эти свидетели, надо будет почитать про них. Но Христа они Богом не признают, это точно, и через такой забор не перелезешь…»
– Гена!
– Что? – встрепенулся он.
– В зеленом домике, – продолжил Степа, – произошло чрезвычайно важное событие, которое касается и тебя.
Событие заключалось в том, что Света с сегодняшнего дня переселялась к Мише, а Гену, тихого и одинокого, никого не трогавшего Гену, это событие коснулось самым неприятным образом: к нему в комнату подселился женолюбивый, да к тому же еще и курящий Гриша, живший ранее с Солевым. Войдя в Генину комнату, Гриша с неудовольствием понюхал тяжеловатый рыбный запах, но промолчал, а Валерьев тоскливо подумал: «Как же теперь молиться?..»
Глава девятая
Хлопотен и неблагодарен труд организатора, но Степа, прирожденный массовик-затейник, находил его приятным. Вот и теперь, в воскресный день накануне отъезда, этот долговязый белобрысый парень с большим угловатым лицом бегал по лагерю и организовывал массы. Лицо Степы было полной противоположностью пластилинового лица Артурки: оно состояло из углов, но не острых или прямых, а исключительно тупых. Есть в столярном ремесле такое понятие – «снять фаску», что означает провести пару раз рубанком по острому или прямому углу деревяшки, и в результате угол видимо закругляется, а на деле распадается на два тупых. Глядя на Степино лицо взором поэта-столяра, можно было подумать, что раньше оно состояло исключительно из прямых и острых углов, а потом с него сняли фаску. Но несмотря на тупость углов, составлявших физиономию Степы, ум его был весьма остр.
Остроумец планировал в последний вечер посидеть у костра, как это делывали ископаемые пионеры, и для осуществления данного плана были первостепенно необходимы костер и компания, а второстепенно – выпивка и закуска. Степина идея воспринялась народными массами положительно, и компания постепенно набиралась. Тощий Олег и толстенькая Ирина согласились с радостью, причем Олег уже успел разведать избушку с недорогим горючим самогоном, а Ирина принесла из столовой, в которой недавно завершился обед, огромное количество съестного. Гриша тоже обещался быть, и не один, а с дамой сердца (с какой именно, он пока не решил), сожалел же Гриша о том, что поздно ему сообщили, уж он бы организовал шашлычок, а теперь мяса не достать (при этих словах он так плотоядно зыркнул на Степу, что тот вздрогнул). Миша со Светой тоже собирались идти, а уж о Степиной рыженькой Лене и говорить нечего – она визжала (буквально) от восторга и прыгала (буквально) от радости.
В данный момент альбинос направлялся к Мише и Свете, идиллически покачивающимся на качелях. Качели эти были весьма широкими, так что на них вполне можно было улечься, они скорее напоминали садовую скамейку, которую за какие-то прегрешения подвергли страшной казни: сначала отпилили ножки, а потом повесили. Впереди и немножко наискосок от этих качелей располагалась пара других, одноместных, и, как успел заметить Степа, Солев несколько раз внимательно поглядывал туда, прямехонько в затылок читающего Гены Валерьева.

