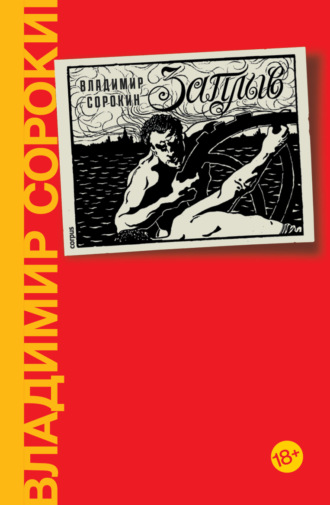
Полная версия
Заплыв
Монстр засопел и медленно развалился на три ленивых куска, луч качнулся и снова ударил по Кротову:
– Кротов. Крот значит. Ты не похож на крота, ишь пальто-то себе длинное достал.
– Он на хлисту похож. Хротоу…
– Кроты толстые.
– Ишь глист, а право имеет. Бааанщик…
Свет пропал, удостоверение полезло в руки ослепшему Кротову:
– Дерши, Хрот.
– Крот – он землю гребёт. Вот так, – возле чёрной головы долговязого заходили грабли огромных рук.
Кротов сунул картонку в карман.
– Топай, банщик.
Кротов, нерешительно ёжась, поправил сползшую на лоб шляпу.
– Топааай, кому сказал! – Один из двойников шаркнул подошвой и угрожающе сплюнул. Кротов повернулся и пошёл к Автокорму.
Пятачок провалился в щель, снизу вылез бумажный стаканчик, тугая струя ударила в его дно. Кротов обнял пальцами мягкий горячий цилиндрик, бережно вынес его из-под нависающего уступа и свободной рукой нащупал в овальной нише выпавший кубик чёрного хлеба.
– Не так страшен черт…
Сзади налетел ветер – холодный и долгий, прополз по брюкам, пошевелил поля кротовской шляпы и ткнулся в спину сохлым листом.
Привалившись к Автокорму, Кротов откусил хлеба, неосторожно склонившись над стаканчиком, хлебнул: свекловичный отвар показался ему горячим и густым. Он снова хлебнул и прислушался: в животе еле слышно ухнуло и ожил крохотный кларнет.
– С утра даже… Ляпсус майнус!
Он рассмеялся, отёр рукавом потёкший нос и опять потянулся к стаканчику, но наверху возник ослепительный свет, мгновенно разросся и перешёл в сухой раскатистый треск. Кротов не успел поднять головы: его пальцы стали белыми, рукава пальто пепельными, чёрный дымящийся кружок свекольного отвара покраснел, в нём вспыхнул зелёно-жёлтый квадрат, отчаянно заискрил, и, распираемый знакомым красным профилем, стал расширяться.
Кротов поднял глаза: квадрат висел над городом, слабо потрескивая, профиль улыбался.
Кротов оглянулся: площадь лежала чиста и светла, дома стали плоскими и близкими, а дальний конец километрового Автокорма торчал рядом, искушая коснуться его рукой.
Квадрат затрещал, запестрил огнями, изогнулся и, медленно оседая, распался жёлто-зелёным бисером.
Снова обвалилась тьма и вместе с нею – приглушённый, широкий и сочный рёв миллионной толпы – там, за кубиками домов, на Главной Площади…
Кротов отбежал от стены и задрал голову: небо взорвалось ярко-синим, хлопнуло во все стороны, в полный рост всплыл Он – уже в объё– ме – громадный, толстый, пестрящий голубыми огнями, с крепко сжатым уходящим в небо кулаком. Мгновение Он стоял, вылепленный огнями, высясь над городом, подпирая собой просветлевший свод, потом заискрил, тронулся, рука повалилась на медленно оседающую голову, рассыпалась голубыми звёздами. Очутившись в темноте, Кротов почувствовал, что он кричит, что шляпы нет на его голове, что пальцы обеих рук сжимают пустоту. Он упал на колени – ослеплённый, оглушённый новым приступом сочного рёва, зашарил руками по асфальту – невидимому, разящему осенней сыростью и свекольным отваром. Над ним снова взорвался свет, прокатился треск и распластался Он – сиренево-красный, плоский, на коричневой трибуне с растопыренной ладонью и запрокинутой головой.
Шляпа, оказывается, лежала рядом, край ослепительно-белого стаканчика торчал из-под пепельно-серого ботинка, хлеб валялся возле нестерпимо голубого Автокорма.
Кротов бросился к нему, схватил, метнулся к шляпе – небо погасло и почти сразу вспыхнуло снова: Он – красно-синий, с жёлтыми искрами пуговиц, вытянулся в зелёном кресле. Кротов нахлобучил шляпу и, придерживая её, подставил Ему своё запрокинутое лицо: кресло стало крениться и вместе с ним – Он, с плеч Его посыпались серебристые погоны, голова поползла вниз, просела, затрещала и разлетелась огненными брызгами.
Кротов проследил за угасанием последних, устало отставших огней, сунул хлеб в карман:
– Закономерность не в этом! Мы к распаду непричастны… Закон… Закон требует, а не мы…
Над головой ослепительно взорвался оранжевый шар, протяжный треск настиг его (так, наверно, боги рвут свои хитоны), расправились блёстки огромной плоскости – Он – в зелёном кителе, коренастый, уперевшийся в город близко посаженными глазами, коротковолосый, узколоб… О, Бооооже!
Кротов замер, присев на сухопарых ногах: левое ухо, Его ухо, ухо, так похожее на съёжившуюся дольку апельсина, ухо, тугие складки которого Кротов вынес ещё из детской памяти, ухо, отлитое в золоте, в бронзе, в стали и в чугуне, вырезанное из мрамора и гранита, из алмаза и янтаря, ухо, не имевшее пространственных границ, разрастающееся с поверхности маковых, рисовых и пшеничных зёрен до километровых транспарантов, ухо, овальный контур которого множат миллионные тиражи, рисуют и лепят художники, описывают писатели, заученно выводят карандаши школьников, – отделилось от искрящей головы, отошло в сторону, вспыхнуло, съёжилось и рассыпалось поспешными звёздами, а Он – сжатый яростным жёлтым окаёмом, ещё горел, ещё парил над городом – безухий и строгий, и лишь когда стал разваливаться на лихорадочные блёстки, оседать, сыпаться и искрить – до Кротова в полной мере дошло то, ЧТО сейчас случилось, ЧТО произошло – тьма свалилась на него, и он окостенел, врос оледеневшими ногами в землю: собралась в сознании вся длинная, отлаженная цепь смутно известного ему аппарата, весь многотысячный штат управления разноцветными огнями салюта (каждый человек отвечает за свою звезду!), и так же, как ухо от упрямой узколобой головы, отслоилась, отошла от этой серо-зелёной, тщательно обученной массы горстка безрассудных смельчаков, управляющих ухом, и встал перед его глазами аккуратный цветной снимок, мельком показанный ему высокопоставленным клиентом, угреватую спину которого он так добросовестно мял по субботам: обложенная кафелем замера, высокая, похожая на сплющенного муравья машина и в её холодно поблескивающей голове – голый, изощрённо защемлённый человек, обезумевший глаз которого (другой заслонён порывисто изогнутой штангой) намертво и навсегда врос в естество Кротова так же прочно, как давно вросла вот эта одинокая, холодная, самая яркая и самая высокая звезда, которую он – ослепший и тяжело дышащий – принял в первую минуту окончательной тьмы и темноты за непогасший остаток салюта.
1978 г.
Ватник
Но он по-прежнему висит в правом углу большой комнаты – между полупустой книжной полкой и башнеобразным нагромождением трёх грязных аквариумов.
За пыльными стёклами в мутно-зелёной воде вяло шевелятся рыбки какой-то невзрачной серийной породы, сонно вплывая и выплывая из трёх его отражений и регулярно сводя меня с ума своим ленивым спокойствием. Возможно, рыбки – единственные существа в нашей маленькой двухкомнатной квартире, которые по милости Божьей начисто лишены возможности чувствовать его присутствие и не видят ни чудовищно вспухшего плеча, ни провисших до пола рукавов, не слышат запаха его засаленного воротника, не вздрагивают по ночам от треска и шороха стены, готовой выпустить согнувшийся под его тяжестью гвоздь.
Каждое утро, на ощупь сбрасывая с себя непослушное одеяло, путаясь во взбитой очередным ночным кошмаром простыне, я приподнимаю взлохмаченную голову и, повернувшись к нему, долго покачиваюсь на онемевших руках, не смея разлепить сонные веки. И каждый раз через осколки разрушенного сна, сквозь лихорадочную рябь цветовых пятен проступает, открывается в моём сознании с детства знакомая композиция: книжная полка повисает слева, аквариумы – справа, внизу поспешно собирается жёлтый щербатый паркет, потрескавшийся, бесконечно далёкий потолок спускается сверху, а посередине (о счастье, о утренний глоток белой свободы!) – ничего. Ничего! Только чистая вертикаль угла да не полинявшие ещё цветы зеленоватых обоев…
Обычно один глаз не выдерживает, и бесформенная тёмно-бурая тень на мгновение повисает между полом и потолком, заставляя другое веко растерянно заморгать. Здесь и происходит то ежеутреннее наложение, что так легко прогоняет из моей головы остатки сна: тёмно-бурое пятно после нескольких колебаний занимает место того божественно-белого Ничего, безжалостно раздвигает рисунок обоев и плотно втискивается в угол.
Мои руки перестают дрожать, я выпутываюсь из тёплой, раскисшей постели, встаю на холодный паркет и, изрядно поломав тело столбняком зевоты, вхожу в мою утреннюю реальность.
Она начинается с путешествия меж каверзных, сумрачных углов непроснувшихся вещей в глянцево-плиточный Эдем совмещённого санузла, с запаха хлорки и непросохшего белья, с необъятной раковины выеденного ржавчиной унитаза, с кривой водяной струи, с вялой щетины полупрозрачной зубной щётки и остро колющей моей, с сумбурного дверного царапанья деда:
– Скоро ты? Скоро, а?
Сливной бачок надсадно ревёт, зубная щётка тычется в треснутый, забрызганный белым стакан, в круглом зеркале пляшет моё помятое лицо.
– Скоро ты? Скоро, а?
Скоро, скоро. Исчезает кривая струя, засыпается торопливыми каплями; растирая по щекам остатки махрового полотенца, откидываю крашеный клювик крючка – трясущийся дед пролезает сквозь меня, а я – притворно бодрый, с меловым привкусом зубного порошка во рту – возвращаюсь в сумрачную комнату, где из правого угла тёмно-бурое чудовище посылает мне своё ежеутреннее приветствие – глухое чёрное О! круглого, до блеска засаленного воротника.
Да. Он кажется мне тёмно-бурым. Я говорю «кажется», потому что не знаю его настоящего цвета. Дед утверждает, что он светло-серый, отец (он сидит сейчас на продавленной кровати, протирая глаза) говорит, что ватник темновато-жёлтый, мать вообще не может сказать о его цвете ничего определённого, а мой пятилетний брат кричит, прыгая на одном месте, что он – синий! синий! синий!
Иногда я пытаюсь представить его таким, каким видят они – светло-серым или синим, но от этого степень его чудовищной нелепости нисколько не уменьшается – ватник, получив налёт какой-то угрюмой романтики, продолжает распирать угол синим пятном, но по-прежнему вспухает его плечо, мягкие, безвольные трубы рукавов тупо тычатся в паркет, рваные замызганные полы… Впрочем, почему – рваные?
– Это мысли твои рваные! И голова твоя дырявая!
Когда дед произносит эти слова, его худое, изломанное, словно лаконичная металлическая конструкция, тело окостеневает и еле заметно вздрагивает, а бледное, невообразимо узкое, как топор, лицо прицельно тянется в мою сторону:
– Ватник совсем новый, понятно?! Если ослепли вы, то я пока ещё зрячий! Зрячий! Ишь, как просто – «старый»! «Рваный»! «Облезлый»! Да вы цены вещам не знаете! Да и сам ты погляди… – Он начинает дрожать сильнее, цепко хватает меня своими жёлтыми костяными пальцами, подтягивает к ватнику и, лихорадочно тычась руками в расползшиеся, гнилые нити, через которые лохмато лезет бурая вата, остервенело шепчет мне в ухо:
– Новый ведь! Новааай! Неношеннааай! А если и ношен – немного! Чуть-чуть! Понимаешь? Чуть-чуть! А выии – выкидывать! Эххх выыыии… – Он отстраняется от меня, блестит полными слёз глазами: – Не умеете вещи ценить. Что имеем – не храним, потерявши – плачем.
И, неожиданно напрягшись, снова заносит надо мной бледный топор своего лица:
– А ведь быстро осмелел ты, сссукин сын! Ума-то, ума набрался, ишь! Смотри, доумничаешься, интеллигент вшивый…
Я думаю, когда-нибудь он не вытерпит и в очередную минуту гнева, в страшное мгновение ничем не уталяемой ностальгии по бесконечным, гулко ловящим грохот марширующих колонн площадям, по идеалогически обновлённым фронтонам и полированным постаментам рассечёт наконец своим старым морщинистым колуном меня, братишку, мать, отца…
Нет. Отца оставит.
– Дети и ты, Фаина, поймите – всегда легче критиковать, чем строить. Выбросить или сломать вещь проще, нежели сконструировать или сшить.
После этих слов отец – круглый, белый и мягкий, словно готовое к выпечке тесто, – неслышно подходит к ватнику, осторожно приподнимает огромный хобот рукава и, косясь на угрюмо сгорбатившегося в углу деда, выпускает из-под мягких рыжеватых усов белые бархатные шары. Они лениво догоняют друг дружку, беззвучно сталкиваясь, слипаются в глухой сонный ком:
– Обрратите внимание… не такой уж старый… уметь разобраться… ты, Фаина, лишена политической прозорливости… необходимо понять… немного износился… нужно учитывать… не всегда верно… уважение к реликвиям… что было – то было, не спорю, но… подкладка совсем новая… положение вещей… каждый на его месте… никому не мешает… может ещё пригодиться… не надо с бухты-барахты… складывалась десятилетиями… узаконено… себя, себя винить надо, а не…
Мать в такие минуты стоит прислонившись к облупленному дверному косяку, устало опустив свою большую некрасивую голову, уперевшись полной, побелевшей от постоянной стирки рукой в другой косяк, на котором чернеют две лесенки нашего роста (брата – пониже, моя – повыше), кои я так люблю рассматривать во время затяжных дискуссий о судьбе ватника.
Как правило, когда я, с трудом сдерживая зевоту, рассеянно скольжу глазами по шкале брата (вот эта – когда ему три, эта – с поспешной извилиной – три с половиной, а эта – чернильная, с размазанным хвостиком – после трёх месяцев у тёти Веры), мать грузно отталкивается от косяка и сбивчиво, нескладно говорит:
– Да старый он, Петь, стааарый! Ведь висит-то не для чего. Так просто висит. И не носит его никто. И не нужен никому. Да если б только висел – ведь пухнет с каждым днём. Да воняет – не приведи бог. Вся комната пропахла этим. Я и запаха такого не нюхала никогда. Ребёнок ведь, – её пухлое плечо дёргается в сторону старательно сопящего над карандашным рисунком брата, – нанюхается гадости этой. А вы, папа, – это ещё более осторожное и спокойное – на лысину деда, настороженно ушедшую в плечи, – умный человек-то, бывалый. Понимать должны… Ведь и по радио говорили… и выступали люди-то…
Сначала оживают хребты его острых плеч, поднимаются, медленно выжимая биллиардный шар головы.
Дед вырастает над нами – длинный и угловатый, как засушенный богомол, громко пробирается через два сдвинутых стула и молча ползёт в свою комнатёнку.
Я мысленно вижу его там – в этом трёхметровом кубе, плотно заставленном старой рассохшейся мебелью: сняв тапочки, он влезает на шаткий стул, нерешительно распрямляется и, уклонившись головой от голубого плафона люстры, тянется на крышу старого шкафа – к небольшому буковому сундучку.
Дальнейшее мне настолько хорошо известно, что я уже не удивляюсь, когда тускло поблескивающее, свежеотлитое реальное без зазора и трения входит в ещё горячо дымящуюся, пустую форму воображаемого: колюче позвякивает потревоженная дедом пыльная гроздь медалей, вяло шуршит облигация замороженного займа, скрипит стул и нервно копошатся в ссохшихся внутренностях сундучка костяные пальцы. Дверь открывается через минуту.
Ожившим саксаулом он торжественно вползает к нам, локтями и коленями протыкает застоялый воздух комнаты: в цепких его руках лохматится замученной лимонницей старая газета.
С этого момента серый, сопливый бес вселившийся в меня скуки начинает лениво расти, пухнет, расправляет обвислые крылья; пёстрый стержень тугой тягомотины постепенно, словно быстрорастущий бамбук, пронизывает мою душу; язык обкладывает кисленькая медная оскомина: это привкус провинциального музея, где над бесчисленными, тщательно застекленными черепками, гильзами и обрывками высохшей кожи угрюмо тускнеют в позолоченном каракуле массивных рам огромные классические пейзажи, на которых плоская зелень листвы неотличима от коричневого, круто нависшего над бесцветной водой берега, или полупустого, плюшевого, подъеденного молью театра, где пыль, поднятая с сонных подмосток добротно рухнувшей героиней, призвана скрывать откровенную скуку, пробившуюся сквозь раскисший шоколад грима ревнивого мавра.
– …И трижды не прав и преступен тот работник труда и обороны, который легко забывает, уклоняется в сторону так называемых, низкопоклонствует перед прогнившей, берёт пример с неприглядных, попадает под влияние тлетворных, сетует на мнимое отсутствие, тянется к якобы новым, разлагается внутри своего, не препятствует опасным и допускает постыдное. «По-настоящему ценить и множить… це-ни-ть и мно-жи-ть, – дед внушительно поднимает палец, – достояния Великого Перемола может только… толь-ко! настоящий, истинный, целеустремлённый, непримиримый, идеологически стойкий, преданный, политически подкованный, высоко несущий, вовремя откликнувшийся, постоянно повышающий, неуклонно претворяющий, смело борющийся и в ногу шагающий, в но-гу! ша! га! ю! щий!»
Я уже не сдерживаюсь и зеваааю, зевааааааю, заламывая судорожно окостеневающие руки, пытаюсь вцепиться ими в мои худые, готовые вот-вот прорвать кожу лопатки…
Мать нехотя дослушивает деда и уходит стирать.
Брат заканчивает портрет однокрылого самолёта, тяжело повисшего над хаотичным зелёным городом.
Отец помогает деду сложить газету, подкатывается к ватнику и, заботливо щурясь, поправляет подвернувшийся край полы…
– Все стынет!
Это наш домашний гонг.
Молчаливо, один за одним мы ползём на кухню.
Отодвигая крохотный кухонный стол от стены, я смотрю на кастрюлю с тягуче булькающей, клейкообразной овсянкой.
Через минуту она расползается в наших тарелках.
Наша кухня настолько мала, что, склонившись над своими тарелками, мы слегка соприкасаемся головами.
Братишка сразу черпает горячее месиво, суёт в рот и, запрокинувшись, трясёт головой, мычит и неистово вращает глазами. Дед зло косится на него, я чувствую, как напряжённо холодеет его голая, крепко упёршаяся мне в лоб голова. Отец щекотит мне висок своими мягкими усами, осторожно покашливает и, склонившись ниже, пускает свою алюминиевую ложку вокруг дымящей бледно-коричневой лепёшки…
Анализируя свою память, мучительно просматривая её пыльные слайды, я каждый раз пытаюсь с максимальной точностью найти тот, на котором впервые отпечаталась эта бесформенная, тёмно-бурая груда, и каждый раз прозрачные услужливые руки достают – неясный, хорошо знакомый, с поспешными рисками ногтевых отметок на его глянцеватой поверхности: мне пять лет, я криклив и непоседлив, с любопытством щупаю мягкую бурую гниль, впитываю в себя незнакомую смрадную вонь. Отец – подвижный, круглый и молодой – осторожно придерживает меня за помочи, сощурившись, смотрит вверх на деда – длинного, сухого, торжественного – без табуретки вбивающего гвоздь в угол.
Помню огромный, тесно уставленный стол с неясными размытыми границами, окантованный чинно молчащими чёрно-белыми гостями; распадается приглушённый говорок, гаснут короткие покашливания; мать полной, дрожащей рукой опускает пчелиную головку патефона на воронёный диск тронувшейся пластинки – я впервые сознательно слушаю гимн… А потом – дед в зелёном кителе, поднимающий под потолок крохотную рюмку, говорящий что-то большое и хорошее, страшно чужой и незнакомый, отец – бодрый, круглый, с улыбочкой прокатывающийся по головам молчаливо жующих («Вам салатику? И вам? И вам? А вам?»), бабушка – тихая и белая, плотно сжатая двумя увешанными медалями толстяками…
Неприятно и непонятно – откуда в овсянке чёрные зёрна? Она и без того горька, пахнет непросохшей мешковиной, а необмолоченного овса в ней так много, что, сложенный мной по краю тарелки, он едва не слипается в зеленоватый круг.
– Спасибо. – Дед всегда встаёт из-за стола первым. Братишка, лениво жуя туго набитым ртом (настолько туго, что им нельзя даже чавкать), пытается схватить жёлтые дедовы пальцы – тот раздражённо выдёргивает руку и, поспешно перешагнув через меня, размашисто шаркает по коридору…
Точно так же размашисто, но с большей примесью желчи в презрительно поджатых лопатках, прошаркал он семь лет назад в свою комнатёнку и непоправимо громко хлопнул дверью: над верхним косяком протянулась тонкая извилистая трещина. Но тогда мы не смотрели ни на неё, ни на деда – наш похожий на слесарский чемодан приёмник торжественно стоял на столе, ручке громкости несколько раз пытались свернуть шею: в мембране бился, рокотал, звенел сталью сочный, хорошо поставленный голос. Я не помню, о чём он вещал миру в то пасмурное мартовское утро – кажется, о закладке нового цементного завода, но в громоподобных перепадах его суровой гармонии, в чеканной поступи фраз и в знойном придыхании был такой ошеломляющий привкус свободы, что наш серый потолок побелел, старые линялые обои чётче проступили на стенах, а комната раздвинулась. Мать сидела за столом, грузно согнувшись, спрятав лицо в свои белые руки: большое тело её беззвучно тряслось, – тряслись плечи, грудь, жидкие, рано поседевшие кудряшки волос и большие дешёвые клипсы в крохотных, похожих на половинку проросшего боба ушах. Испуганный бледный отец сидел рядом, тяжело дышал, часто промакивая платком растопившийся сальник кургузого затылка:
– Сынок, достань бумажку с ручкой… запишем… достань, милый…
Я шумно вырвался из-за стола, бросился к полке и замер с комком спёртого воздуха в горле: ватник был вдвое меньше.
Я осторожно подошёл ближе, пристально вглядываясь, и волна холодного огня прошлась по корням моих волос, зябко сползла по спине: грязная, тёмно-бурая плоть ватника вяло шевелилась, в ней шло какое-то сумрачно-сосредоточенное движение – прорехи затягивались, скрывая прель, разорванные швы срастались, выравнивались, гнилая вата съёживалась, засаленные места теряли свой грязный блеск, ватник светлел и сжимался. Когда стальной докладчик выкрикнул последнее слово и битком набитый приёмник восторженно затрещал – ватник висел на гвозде – аккуратный, тёмно-серый, размером с детскую курточку – кургузые рукавчики свободно вытянулись вдоль стёганых бортиков.
После выступления мать окончательно решила выбросить его. Угрожающе поднявшись над столом, словно грозовая туча, она всплескивала полными руками, трясла головой и требовательно клевала белым пальцем жестяную крышку приёмника, который после короткой паузы разразился бравурной музыкой. Отец перекатывался по комнате, мягко огибая углы, что-то бормотал себе под нос, боязливо скрёб свои оплывшие щёки.
Здесь-то и распахнулась дедова дверь – он вышел как обычно – решительно и угловато. Старая газета вяло вспорхнула из его рук и распласталась на столе. Дед схватил радостно гремящий приёмник, тяжело размахнулся и швырнул в угол, под скорчившийся ватник; раздался колючий треск, марш хрипло рассыпался…
Он читал нам газету до полуночи.
В полночь его сухой, словно старая церковная свеча, палец торжественно потянулся вверх, бескровные губы величественно выпустили последнее:
– … а также бла-го-дар-ность в сердцах грядущих поколений. Да. По-ко-ле-ний!
Мать молча встала, вздохнула и пошла стирать.
Отец тоже встал – мягкий и спокойный, – улыбнулся, подплыл к ватнику, поправил оттопырившийся рукав. Постоял. Потом нагнулся и стал собирать осколки приёмника…
По цвету утреннего чая я всегда определяю состояние бюджета нашей семьи на текущую неделю: если цвет коньячный – мы живём «хорошо», если густо-лимонный – «нормально», если же он похож на цвет водки, повторно налитой в графин с бледными, давно отдавшими желтизну апельсиновыми корками, – «ничего».
Сегодня он чуть желтее этой водки.
Рассматривая сквозь опрокинутый, быстро пустеющий стакан искривлённое стеклом лицо матери, сосредоточенно вытирающей хлебом наши тарелки, подвожу под завтраком бледно-синюю черту, старательно выписываю каллиграфическое «ничего».
Вытряхнув в рот желтоватый остаток со стайкой разбухших чаинок (как горазды они прилипать к стеклу!), ставлю стакан на стол, встаю и, пробурчав безответное «спасибо», справедливости ради добавляю к непросохшему ещё «ничего» худенький плюс.
«Ничего» с плюсом…
Всякий раз, когда я сажусь за свой крохотный рабочий стол, что так уютно примостился под нависающей книжной полкой, ноздрёй касается угрюмый смрад и глаза, оторвавшись от пачек бумажных заготовок (я клею из них конверты), тянут тщетно сопротивляющуюся голову вправо.
Я борюсь – впиваясь ногтями в подушечки пальцев, завивая ноги тугой, ноющей верёвкой, сжимая зубами кончик языка, но через минуту не подвластная мне шея с хрустом поворачивается: глаза влипают в бурое скопище гнилой ваты и мохнатых нитей.
Анализируя его запах (если это можно назвать запахом, я каждый раз мучительно ищу аналогов в бесконечном мире земных запахов и безнадёжно не нахожу их: Бог не смог сотворить ничего подобного.
По сравнению с этой угарной вонью запах разложившегося мяса или тухлых яиц представляется мне глотком чистого воздуха.
Испускаемому ватником смраду невозможно дать однозначного определения – он сложен и многосоставен, словно зловеще горящая мозаика. Единственное, что хоть как-то помогает отвести ему место в сознании и спокойно, без сердечной колотьбы, осмыслить – этой примитивный синтез. Чтобы получить сей убийственный конгломерат, я взял бы горечь застарелой, полусожжённой помойки, сладковатую вонь кишащей червями лошади, сопревшее в старых сундуках трепьё, свиной помёт, мокнущую под дождём рухлядь, разрытую могилу, гниющую под солнцем требуху.











