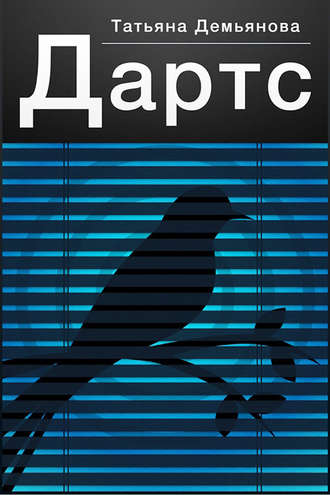
Полная версия
Дартс
– Тогда ее полет был долгим, – мой голос непривычно тих.
– Долгим?
– Не знаю поблизости ни одного птичьего притона, где бы приторговывали пестицидами.
Он беззастенчиво сверлит меня взглядом несколько секунд, после чего протягивает руку.
– Герман.
– Дима, – от волнения моя ладонь скользкая, как чешуя карася, быстро отнимаю ее и слежу за реакцией собеседника. Он не выдает, заметил ли мое стеснение.
– Двоюродный брат Леры?
– Друг.
– Для друга вы слишком близки. Ее муж не ревнует?
Прячу взгляд под крыло утки – внимательно рассматриваю, как на скульптуре очерчены перышки.
– Странно, когда символ смерти – ворона – умирает, – мой ответ для этого, лучшего из миров.
Но это мне приходится задрожать от загадочного спокойствия, которым Герман обходит неуместное замечание. Среднестатистический взрослый выдерживает со мной не более двух минут, после чего сбегает под халтурным предлогом.
– В преданиях чукчей ворона – шаман, поэтому ее смерть – возрождение.
– Противоположности не могут сосуществовать друг с другом.
– Отчего это?
(Например, эта пара. То, что важный знакомый Валерия Александровича и дощатый паренек в красных подтяжках сидят рядом на утке и утенке, вызывает угрожающие колебания во Вселенной.)
– Потому что они приводят к химическому взаимодействию. Противоположностей не бывает – бывают элементы, не вступившие в реакцию. Если взять биосинтез того же стрихнина из триптофана и германниола…
Мой увлеченный монолог прерывает отец Леры, который отводит Германа в сторону и протягивает ему конверт.
– Все, как договорились?
– Как договорились, – мой недавний собеседник скалится, обнажая идеальные зубы.
– Познакомился со светилом науки?
– Да, Дима успел произвести на меня впечатление.
– Что же, замечательно. Подбросишь его? Тебе, должно быть, по пути.
– Как скажете, Валерий.
В неловкости мы остаемся одни. Точнее, в неловкости остаюсь я, Герман остается в самоуверенности.
– Спровадили все-таки. Я знал. Пошли, нежеланный гость в красном.
(Он имеет в виду мои подтяжки или щеки?)
Окна его автомобиля продолжают комедию: элегантно одетый и стройный мужчина, рядом неуклюжий и дощатый я; даже ребенок на парковке кидает мне презрительный взгляд. Все вокруг намекает на то, что нет мне места рядом с подобным человеком, а ограда оставляет на ноге синяк с указанием на выход.
– Дима, значит. Однокурсник. Не раз слышал о тебе от Валерия.
– Вы работаете с ним?
– Работаю.
Наблюдаю за Германом, уверенно держащим руль – убежден, он знает себе цену, рядом с ним каждый признает свою ограниченность.
– Спроси меня.
– Что?
– Неужели тебе неинтересно, что о тебе говорил Валерий?
– Очевидно, вам очень хочется рассказать.
– Ретивый, – в очередной раз мерит меня оценивающим взглядом. – Он неоднократно называл тебя гением. И что он ждет не дождется, когда ты устроишься на работу в его компанию.
– Неинтересно.
– Почему?
– Хочу заниматься наукой.
– Дима в красных подтяжках хочет заниматься наукой, – водитель барабанит пальцами по рулю, словно что-то обдумывая. – И на разработку какого препарата ты планируешь потратить лучшие годы жизни?
– Меня интересует иммунология.
– Самозащита организма?
– Наоборот, поражение органов собственными антителами. Саморазрушение.
– Системная красная волчанка? – Герман демонстрирует собственную подкованность и выпрямляется в кресле.
– Например.
– Заканчиваешь аспирантуру?
– Еще нет. Я отстал на год.
– Черт, ты же гений, ты должен перескакивать курсы, – его оскал окрашивает мои щеки румяным заревом.
– Вы меня нервируете.
– Я знаю. Ты меня тоже. Рушишь все стереотипы об ученых: страшненькие ботаники без личной жизни. Чем же ты занимался целый год?
– Что за допрос? – во мне соперничают бешенство и страх перед осанкой этого человека.
– Неудивительно, что тебя выгнали, – замечает Герман.
– Что?
– Из института. За неуместные интонации перед взрослыми.
– Календарный возраст предоставляет людям шанс повзрослеть, но не все им пользуются, – выставляю иголки и опоминаюсь.
Вот, полилось мое неуместное мнение, из-за которого в школе меня называли тупым недомерком ученики и за глаза учителя. Страшненький ботаник без личной жизни.
– Ты всегда такой? – его интонации что белый свет, никак не разложить их на спектр.
– Честный?
– Бестактный.
– Если дать мне возможность раскрыть рот. Поэтому предпочитаю молчать.
– И отсиживаться на утке?
Я был готов к злости, к раздражению, к гневу. К отвержению. Но вместо этого новый знакомый заставляет меня рассмеяться.
– Ты прав, тебе не стоит работать на отца Леры, с таким норовом ты с ним долго не проработаешь. Тем более над дженериками[9]. Знаешь, в своих желтых штанах ты тянешь на хипстера.
(Это и есть светский разговор, который поддерживают экстраверты для создания дружелюбной атмосферы?)
– Ты не слышал про хипстеров, неужели нет? Это современная субкультура, – не унимается Герман, пока я гадаю, заметил ли он, что я нервно общипал себе запястье.
– Интереснее изучать то, что вечно.
– Пласты мезозойской эры?
– Тоже преходящи.
– Ага, романтик. Любовь?
– Смерть.
– Какая сторона тебя интересует? Кладбище? Разложение? Готика?
– Взаимодействие, – отвечаю сквозь смех.
– С чем?
– С жизнью. Когда они встречаются, происходит реакция.
– И что же дальше?
– Пока известны только слагаемые и их валентности.
– Ищешь во всем формулу?
– Чем еще заниматься страшненькому ботанику без личной жизни?
Останавливаемся на светофоре. Герман снимает солнечные очки и просит убрать их в бардачок, когда же мои пальцы касаются дужек, сжимает мое запястье и «гравирует» на ухо – если бы слова были материальны, то оставили бы на мне печатный оттиск.
– Нельзя бросать себе такие приговоры.
– Не твое дело.
– Не могу поверить, что в шестидесяти килограммах может уместиться столько дерзости.
Возвращает руку на руль, сигнал переключается на зеленый. На следующем повороте он останавливает машину.
– До моего дома отсюда пятнадцать минут пешком.
– Дойдешь.
– Я, было, решил, что ты – особенный. Всю жизнь меня никто… С мной никто так не разговаривал. Ты будто… принял мой способ… общения. А теперь… Неужели я тебя оскорбил?
– Дима, меня невозможно оскорбить. А тебе стоит расширить круг знакомых, тогда ты рано или поздно встретишь людей, которые будут тебя принимать. В этом нет ничего сверхъестественного. Теперь тебе пора.
– Один вопрос?
– Один.
– Почему ты ко мне подошел?
Герман бледнеет, отбивая неизвестный ритм по рулю.
– Неуместный вопрос… Для меня ты тоже особенный. Действительно хочешь это знать?
– Хочу.
– Ладно, Дима в красных подтяжках. Мне показалось, что ты из моей лиги.
– Из твоей лиги?
– Думай, ученый.
Голова делает круг вокруг своей оси, или ось поворачивается на триста шестьдесят градусов? Этот Герман – гей!
– Вот, запомни, как чувствуют себя люди, когда им говорят правду, к которой они не готовы. Тебе пора.
– Постой!
– Что?
– А мы можем просто общаться?
– Ты не представляешь, кто я такой. Просто не получится, Дима.
Где мой сарказм? Где мое острословие? Где я? Меня нет. Есть только солнце, подсвечивающее напористые облака. Все остальное размыто по лазурному небу. Рядом с Германом, в беспредельной тишине боюсь пошевелиться – с трудом смотрю на него – он бесшумно смеется.
– Я решил, что ты в меня влюблен. Ты так выразительно побледнел во время рукопожатия. Все, хватит – вдруг обрывает он сам себя.
Бросаю вызывающий взгляд, но Герман только смеется и закуривает сигарету.
3
Уходить надо красиво. Последний образ должен быть выбран тобой. Пусть это будет чистота. Надеваю новую рубашку и брюки (мама купила на свадьбу Леры, но мне удалось их не заметить) – день, что унесет с собой память, запечатлеет расчесанного подростка в хрустящей отглаженной одежде. Это я. Привет!
Крупные редкие капли прижимают листву к асфальту, земля расползается от потоков воды. На штанах сереет карта – мысли, набросанные грязью, летящей из-под каблуков. Все не по плану. Нет, я не согласен с такими зарисовками. Дождь должен стать откровением, чистилищем, где хаос упорядочивается как элементы по таблице Менделеева. Только энтропия нарастает, и меня штормит. Этот беспорядок, он из непривычной материи, он от страха, тяжелого и вязкого – из него не вытянуть цепочку рассуждений, на него не хватит центробежной силы, его не разогнать на составляющие.
Холодный стетоскоп на груди. В зажатых пальцах – предел вечности. Что я должен сделать, чтобы принять его существование?
Вдох.
Что там с интервалами? На розовой бумажке симфония (ввернуть бы красивую метафору, но, к сожалению, знаю только неуместную «Lacrimosa» Моцарта). Все верно, играет сердце гения, отбивает такт будущих откровений.
Выдох.
Значит, все хорошо. Открытия ждут меня. Остается лишь сделать выбор и сузить направление для кропотливого исследования – только у меня слишком много возможностей. За какую взяться? Мне бы совет волшебного существа, лесного эльфа, белоснежного лебедя, который умеет угадывать тайны мироздания.
В руках игрушка для младенца – подарок на шесть месяцев со дня рождения. Дорогу найти легко – Лера живет в том же доме, где и раньше, но на два этажа ниже (ее отец не долго думал, куда поселить молодых). На празднике привычный мир переворачивается: Валерия управляется с ребенком так же легко, как я с уравнениями по химии, вот к чему у нее природная склонность (стоит отвернуться, и младенец норовит разбить себе голову – откуда столько любви к маленькому самоубийце?). Теперь все сказки и секреты предназначаются не мне (и даже не ее мужу), у нее новый центр Вселенной. Похоже, это не понравилось Владу, по крайней мере, Валерий Александрович заявил, что выгнал его, когда тот в очередной раз пришел домой пьяным (удивительный нюх – с верхнего-то этажа!), и доверительно вложил мне в ладонь конфискованную связку ключей (на экстренный случай). С трудом верю, что еще нужен Лере, но она согласно кивает на предложение сидеть с ребенком, со временем добавляя в мой график «четверги» – дни, когда у нее йога, а бабушка занята. Требуется время, чтобы привыкнуть к маленькому ребенку, к игрушечно-голубым глазам, смешным ручкам и запойному реву, зато по вечерам, когда Лера возвращается с занятий, она читает нам сказки – мне и маленькой Ли – и мы втроем зарываемся под одеяло.
И вновь, верная примета: если на горизонте ясно прорисованы будущие десятилетия, и судьба различима до мелочей, являются Мойры, чтобы напомнить, что то – мираж в пустыне человеческой самонадеянности. Незыблемая рутина, выстроенная мною на года: мама, институт и девочки – оказывается недолговечной. В один из четвергов – как раз кончался август – Валерий Александрович, уже не единожды жавший мне руку во время моих посещений, пригласил меня на «настоящий мужской отдых». Мне бы отказаться, но любопытство пересилило и разум, и страх. И я попался: моя бедная «мужская» фантазия не могла предположить, что янтарный лес, в которой меня привезли, предназначается для игры в пейнтбол, лучшего из возможного времяпрепровождения для мальчика с паническими атаками.
Мои предложения об охране базы отметаются взрывным смехом, и меня направляют изучать гарнизон. Когда нет возможности отказать человеку, необходимо отказать обстоятельствам. Устав от тяжелой амуниции, я опускаюсь на колени и не зря: прогулка на карачках по осеннему лесу сродни медитации – концентрация на неровностях земли, кочках, сучьях, линиях судьбы. Мои мысли раз за разом возвращаются к Лере: если мне так хорошо рядом с ней, почему бы не?.. И были бы Мы, и было бы ежевечернее теплое покрывало и грудной голос, ограждающий от забот? В раздумьях облокачиваюсь об ограждение, преградившее мой путь. Что, если это он, тот шаг, дарующий счастье? Озаренный, порывисто и восторженно встаю во весь рост – челку задувает на глаза, только блики в просветах – как шар с краской с силой толкает в грудь и валит набок. Макушки деревьев, изумрудные кроны и сквозь них – белые лучи – совершенство на несколько секунд; закрываю глаза – благодать, как покойно, пусть мир вертится без меня, я умер, меня нет.
– Дима?
Знакомый голос. Крепкие руки возвращают на землю. Утопаю в запахе. Никакого парфюма. Это аромат кожи, смешанный с запахом листьев, облепивших камуфляж. Между мной и ним – сантиметр.
– Время тебя не меняет, опять в неестественной позе.
– Здравствуйте, Герман.
– Очень опрометчиво – мечтать на базе противника. Теперь ты в плену. Буду держать тебя здесь.
– Разве это предусмотрено правилами?
– Мне вчера исполнилось тридцать три, мне можно все.
Над нами стихает ветер – дарует тишину, подчеркивает, как сосны величественны и молчаливы, если их не тревожить. Пустота раздвигает деревья, наполняет легкие кислородом, водянистая земля расцветает небом под неторопливое течение облаков. Время останавливается, пространство вот-вот окутает черное молоко. Нас отличает только цвет командной ленточки: у обоих растрепаны волосы и лица в поту. То Герман или фата-моргана[10], по ошибке повторяющая меня?
– Думал, вам больше.
Он усмехается.
– Я тоже.
– Сейчас будет речь разочарованного и циничного мудреца?
– Мне было как раз как тебе, двадцать с небольшим, когда со мной познакомился мужчина. Он перевернул мою жизнь.
– Зачем вы рассказываете мне это?
– Угадай.
– Намного он был старше?
– Ему было под сорок. Теперь скажи, что ты чувствуешь рядом со мной?
– Неловкость.
Герман отрицательно качает головой и приближается ко мне вплотную: от его тела исходит настоящий жар. Моему замешательству нет границ, когда мои губы против воли тянутся к его губам.
– Тс, – говорит он, – не здесь, – и отводит мое лицо кончиками пальцев.
Будто от великой опасности я вскакиваю на ноги и собираюсь бежать, но Герман хватает меня за брюки и возвращает на место.
– Сиди, если не хочешь получить краской по голове. Это же вражеская территория, забыл?
– Что вам надо?
– После всего, что между нами было, давай вернемся на ты.
– Между нами ничего не было.
– Сама невинность.
– Лучше, чем быть беспринципным…
– Тс, – он вновь прикладывает палец к моим губам.
Кто-то зовет его. Он выходит из-за укрытия, закинув автомат на плечи. Пришедший не заметил меня, это становится ясно из разговора. Тогда я ложусь на живот и устремляюсь в сторону так быстро, как это позволяют мокрые коленки. Но далеко отползти не удается: рука соскальзывает в яму и натыкается на нечто острое. Сев на колени, оцениваю ущерб: палка пропорола куртку, но меня не зацепила.
Тем временем яма начинает дышать. Что-то шевелится и хрюкает в углублении, что-то ворсистое, со слипшимися от грязи волосами. Пячусь назад, отталкиваясь от земли ладонями. Хрюканье становится громче. На расстоянии вытянутой (той самой, не пораненной) руки, раскидывая в стороны листья и вихляя бедрами, передо мной возникает профиль жирного дикого кабана. Пальцы вцепляются в пейнтбольный автомат, верхняя губа собирает пот, сердце вступает в перезвон с дыханием. Скользить по мощным коротким ногам, по торчащим в разные стороны клокам – нет, нет, нельзя!.. – но меня тянет приникнуть к шерсти обладателя!.. Правая рука взлетает вперед, только в животе холод от предчувствия клыков и мощных ног вепря. Трясусь – от страха и желания. Нельзя, нельзя!.. Нельзя себя выдать! Зверь смотрит перед собой, он не видит меня. Пока. Но как хочется укутаться в тяжелую шерсть, забыться в ее тепле…
Хлопок. Другой. Третий. Еще. Кабан визжит. Несусь за ним. Куда? Куда он убегает? От меня! От меня! Стой! Бегу меж свистящих деревьев, меж робеющих камней и скромных холмиков – бегу. Бегу, пока не начинаю задыхаться, пока не падаю на землю и не хватаю воздух, изголодавшись.
Кабан рядом. Через три ствола просматривается мохнатый хвост. Зверь разгребает копытом черную землю, что-то вынюхивает. Хочется подбежать к нему, обнять толстую шею и позволить себя разорвать. Где-то высоко кричит птица, уверен, то Нулла, ведь по моей коже кружат зимние мурашки. Искривление времени в эвклидовом пространстве: его не измерить секундами, шкала теперь – направление. Нулла кричит еще раз. Кабан идет вперед.
Лес восстанавливается: деревья обретают неподвижность, земля – неровности и почву. Золотые листья ловят алеющие лучи. «У древних переход в иной мир мыслился либо как разрыв, как провал, как ниспадение, либо как восхищение. В сущности, все мистерийные обряды имели целью уничтожить смерть как разрыв» [11]. Я возрастаю. Возрастаю.
– Идиот! – меня настигает Герман. – Идиот!
В гневе мой спутник походит на вепря. Огненное солнце. Красные глаза. Вокруг – ни души, теперь наверняка птицы и насекомые разбежались, и мне бы последовать за ними. От его крика у меня тахикардия, любуюсь на грязь, забившуюся под ногти.
– Это, по-твоему, что, кошечка? Боже мой, такого идиота я еще ни разу в жизни не встречал!
Взгляд вепря для меня так же притягателен, как пение Сирен для Одиссея. Если я скажу, что знал об опасности, что он подумает?
– Если бы выстрелы не спугнули его, он бы тебя…
– В мифологии древних людей, – скороговоркой перебиваю его, – были особые дети, которых нельзя было ни класть на землю, ни брать на руки. Таких детей спускали на воду.
– Что?!
– На воду.
– Мать твою, Дима, какая вода? – он делает паузу и опускается рядом, устраивая руку мне на спину.
– Я к тому, что у меня плохие отношения с воздушно-ветряной средой.
И к тому, что существуют истории о порченых детях, которых отправляли на смерть.
– Как в сказке «О царе Салтане»…
Нет, Александр Сергеевич пел о другом.
– Царевича вместе с матерью засмолили в бочку и спустили на воду, так? И они оказалась на острове Буян.
– С царевной Лебедь, белочкой и тридцатью тремя богатырями.
– Ты собираешься открыть новое царство, Дима?
Сукин сын, я совсем о другом. Куда он клонит? Игнорирую провокационный вопрос и целую его в ямочку, касаясь носом влажных губ.
– Дима, кто ты, чего ты хочешь? – обращается он ко мне спустя вечность, проведенную в смятении.
– После смерти, – тараторю я, – первый мир, в который попадает душа, это Чигай. Он ближе всего к состоянию просветления. Чем дальше от него, тем сложнее отказаться от земного притяжения и возвратиться в счастливую пустоту. Чем порочнее ты жил, тем больше чертей и демонов набросятся на тебя, чтобы разорвать на части. Если ты не старался поверить в спасение, то велика вероятность того, что оно не придет. Чем меньше осознанных воспоминаний о жизни, тем быстрее и тщательнее тебя переварит безразличный орел.
– Угадывается Тибетская книга мертвых, христианские откровения… Что за орел?
– Кастанеда.
– Ага. Еще ты не хочешь, чтобы твое сознание прервалось по желанию всемогущего Кришны? Или чтобы на Землю прибыли всадники Апокалипсиса? Или чтобы ответ на все вопросы был сорок два[12]? Скажи, чего ты хочешь?
Меня здесь нет, есть только тело, наблюдающее за происходящим со стороны.
– Я хочу, чтобы ты отвез меня домой. У меня болит рука, – указываю на разорванную куртку.
– Это не боль, боль – это твой самообман. Легко быть честным по отношению к другим, когда себя травишь байками. Ты пожираешь меня, но не реагируешь на флирт.
– Ничего не было.
– Ничего не было, или ничего не было в твоей голове?
– Может, я – асексуал, и мне физически неприятен секс, может, мое дело состоит в изучении закоулков разума. Ты же ничего обо мне не знаешь.
– Что за бред, – с этим словами он сжимает мое достоинство. – Дима, хочу тебя обрадовать, ты обладатель отличной потенции и нетрадиционной ориентации.
Отползаю в сторону. Больше драмы – это о мужчинах, бегающих по лесу с автоматами, наполненными голубой краской.
– Ну, что ты наделал? – в моих глазах стоят слезы. – Что ты наделал? Что же теперь дальше? Что же со мной будет?
– Ты на земле, учись ходить.
Отползаю еще на несколько метров. Герман следит за моими движениями, как кот за канарейкой.
– Вот она, твоя жизнь. Ползти и делать вид, что ничего не происходит.
– Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы так вламываться? Тебе хочется поиграть? Так иди, играй, вокруг полно более легких безделушек.
– Игра давно кончилась, твоя команда победила. Ты бы услышал это, если бы не играл с вепрем.
– Это твое хобби? Издеваться над людьми?
Мне не страшно. Я слышу ноту, которую мне следует сыграть.
– Если это доставляет удовольствие обоим.
– Эгоист.
– Со временем привыкнешь.
– К твоему эгоизму?
– К правде. Это как яркий свет после пребывания в темноте. Зрачкам требуется время, чтобы адаптироваться к освещению. Больно только первое время.
4
Сон схватывает меня в редкие минуты, когда цепкие жгутики ослабляют хватку, но стоит укутаться в дрему, как те с силой вырывают обратно в тревожное бытие. Лихорадит. Тру ступни друг о друга, провожу ладонями по ягодицам, глажу свой живот – столько лет это тело было мной непознанным. Разорванность, отстранявшая от собственной плоти, исчезла, на ее место пришло ощущение переполняющей целостности. (Удивительно, что женщины в первую ночь, наоборот, теряют целостность. Верно, поэтому им необходимо произвести на свет ребенка – чтобы ее восстановить.)
Горизонт растекается красным – то жгутиконосцы тянут волосяные ножки в сторону запада, захватывая купол, – корабли, устремленные в Элладу, – предвещают, что возвращение будет ознаменовано предательством[13]. Поднимаюсь с постели и отодвигаю занавеску, чтобы рассмотреть кровавые подтеки, нанесенные паразитами: город не готов к моему пробуждению, раз не успел прогнать на дно протистов[14], остается только наблюдать за угрожающей интервенцией.
– Что там? Иди сюда, – зовет меня сонный шепот.
Не двигаюсь с места, пока не наступает финал, и гармоника не меняет амплитуду. Жду. В молочное небо кидают лимон, и кислотные краски наводняют город, забрасывая окна полосками желтой кожуры. Если приложить ладонь к стеклу, можно коснуться этих лучей – горячих посланников, пролитых с перистых облаков, укачанных в бриллиантовой желти. На моих кончиках – теплый отпечаток света.
– Дима, – меня зовет любовник, отворачивая одеяло.
Секс – субстрат, во время полового акта снисходит трепетная убежденность, что через эту первооснову можно познать смерть, что на пике активности можно выдавить из себя жизнь, овладеть стойкой эйфорией небытия. Непрестанный диалог между телами. Чем ярче прикосновения, тем скорее замарывается личный вкус. Новая составляющая смерти – соитие с тянущим послевкусием. Чем теснее прижиматься к Герману, тем далее отходить от себя, растворяться в окружающем, терять свое «я».
– Дима? – бормочет он и притягивает к себе. – Дима, – этот голос, произносящий мое имя.
Не поэтому ли в древних сказаниях имена открывали немногим избранным, чтобы нивелировать экстернальную[15] связь, сохранить для сокровенного?
– Это же фляк бланш, – шепчет Валерия.
Кружусь по комнате, чтобы найти ее – кончик юбки ускользает в соседней комнате. Бегу за ним. Но Лера уже далеко – подбегает к горизонту, встает босыми ступнями на линию и прыгает назад и на руки. Широкая юбка-колокольчик делает балетное па. Хочу подстраховать ее, иначе она разлетится на миллионы брызг, но увязаю – жгутиконосцы тянут осьминожьи щупальца, обвиваются вокруг моих ног – остается только смотреть, как Лера отталкивается руками и вновь летит назад. Худенькие ножки уверенно балансируют на тонкой линии – чувствую, как ее мышцы напряжены – от усилия тают, Лера тает. Это уже не она, это тень уходящей ночи, что касается моего плеча, прикладывая ледяные губы к левому уху.
– Уходи, уходи, рядом Герман, – цежу сквозь зубы. – Мы вместе два месяца. Все так зыбко. Уходи, уходи. Он не должен знать о тебе. Уходи. Уходи.
В груди колючий лед, от холода немеет плечо, только окно закрыто, и в комнате духота. Нет. Нет. Это не температура снаружи. Это я. Нет. Нет. Не сейчас. Не с ним. Он не должен знать, что от страха я хватаюсь за одеяло и зову маму, безвольно качаюсь взад-вперед на вымокшей от пота простыне.
– Что, что мне сделать? Скорую? Это сердце?
Вперед-назад, вперед-назад, впиваюсь в нижнюю губу зубами, чтобы не заорать. Вперед-назад. Надо открыть рот, надо открыть рот, чтобы впустить воздух. Нет, нет, тогда сорвется крик. Сумеречное пространство между мной и стенами, кислород выжжен. Хватаю, хватаю все, что только есть рядом, но вокруг – вокруг ничего нет, только слезы, слезы, ужас – выхода нет вокруг. Хлопки от крыльев птицы. Нет, нет! Все выше по окружности, вверх, а кислорода все нет. Слышу раз – и воздух льется в грудь – какая свежесть, выдыхаю – слышу два – искрится свет белой лампы, вдох-выдох – слышу три. Это Герман, это Герман говорит, как мне дышать, и дышит вместе со мной, прикладывая ладонь к мокрой спине…


