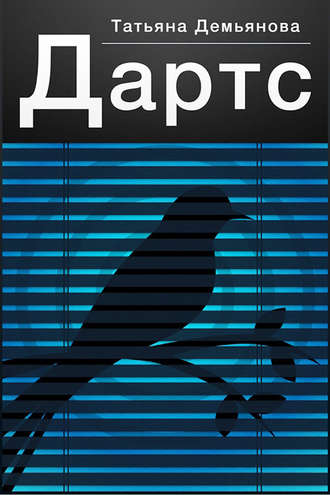
Полная версия
Дартс

Татьяна Демьянова
Дартс
Странно, что я искал спасения. Совсем – как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра ему приснится ее местонахождение.
В. Набоков «Приглашение на казнь»Предисловие
Пространство расширяется, когда меня нет. Бесконечный полет – во сне нет горизонтов. Время что рябь на море – движется, но остается на месте. Безмятежность, когда нет делений циферблата. Нет необходимости выбирать путь – на небе не существует направлений. Легкое парение среди облаков, за волокнами которых скрываются серебристые создания. Ловлю клич одного из них – оно отрывается от группы и летит вверх. Его крик перебивает ветер. Поднимаю взгляд и различаю желанные очертания…
Внезапно – утро. Голова не на подушке. Где я, где будильник, где кофе? Аппарат для эспрессо сломан, можно не вставать и грезить наяву, вспоминая ночные часы, любоваться на пальцы, несущие следы воспоминаний. На запястье – чернильный узор, стираю отпечаток. Все оттого, что утро – так внезапно, что не успела прийти в порядок кофемашина. Достать с верхней полки турку, просыпать на пол зерна, глотнуть ледяной жижи, потому что плита не была включена. Проснуться, оглядеться, отойти от сновидческих красок, заполнить все экспрессивно-личными чертами. Вспомнить, кто я.
Рука приближается к металлической лампе, включаю свет – отражение выпукло, словно рыбий глаз. Бегаю стержнем по листу: поиск – моя жизнь, мой воздух. Я способен познать недоступное, прозреть итог, приподнять покрывало, которое скрывает мрак, схватить знак равенства и вытянуть решение. Мне доступно особое зрение – видение того, чего нет, мой гений беспределен и ограничен лишь желанием. Разгадки, которых касается моя жажда, отменяют непроходимые лабиринты – поверяют пути, которыми их можно достичь.
Одного мне не предугадать – что следует за разгадкой, который пункт назначения в исследовании истинный. Поиск всегда движется своим путем, создает собственные фуги, полагается на нечаянные обстоятельства – обретает жизнь, торопит искать вдохновение среди неизведанных источников. Когда я в первый раз ступал на путь, то не догадывался, что открытие приведет меня к переживанию смерти. Сейчас, спустя десятки лет, листая дневники и перечитывая письма, сопутствующие первому важному открытию, с трудом верю, что их писал я, крепкое слово так и выскочит при обнаружении очередного слепого пятна – у гениев они свои. Столько слов, фантазий – и все не о том, не о главном, но, как оказалось, для главного. Его я до сих пор не могу забыть. А теперь – тсс – выключаю лампу – пусть тьма в одиночестве смеется над моими записями.
Часть первая
1
Темно. Дождевые капли раздражают стекло. Стою цаплей и наблюдаю за прохожими. Всегда должен быть тот, кто наблюдает (и те, за кем наблюдают), иначе игра теряет смысл. Интрига – в степени изменений, которую вносит созерцатель: состояние кванта всегда меняется от постороннего намерения[1]. В Древней Греции об этом знали – боги, Одиссей… Знали они и исключение: спуск в Аид влияет только на наблюдателя.
Мое зрительное место – галерка, все примечательное в мире открывается с горы Монблан. Четыре тысячи восемьсот восемь метров над уровнем моря, по сторонам сетка стран – презрение пределов; возможности же моего перемещения ограничены радиусом в три станции метро, на дальней из которых – больница.
Стук в дверь. Надеваю меховые тапочки и плетусь на кухню. Мама подкладывает оладьи в тарелку и заводит сломанный диалог: он никуда не движется, но каждый раз она с усердием поворачивает ключ. Всеобщая истерия коммуникации, которой мне не понять: начинать разговор оттого, что сказать нечего.
– Познакомься с кем-нибудь.
Любимая мамина колея: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков…» [2]. Она не может смириться, что я – дыра социальной галактики, черная область, не источающая свет, но притягивающая волны негативных эмоций. Но выхода нет, и я шествую к моей Трое, в институт, где сгустки коллектива просчитываются астрономическими формулами.
Мне бы закурить, пока первокурсники вращаются малыми созвездиями, небрежно откинуть голову, стряхнуть пепел на асфальт, закрутить окурок острым носком ботинка… Но я оттягиваю пальцами нижнюю губу и разглядываю тряпичные кеды с белыми звездами, пока созерцание не прерывает пара замшевых мокасин. Их обладатель – Андрей, пухленький мальчик с прыщом на щеке, и мы уже вдвоем топчемся под табличкой «Химическая технология». От обувного степа отвлекает выступление ректора, а после – волна сокурсников, безапелляционно увлекающая в ближайший сквер для продолжения знакомства. Меня не покидают ни Андрей, ни ощущение, что я – клякса на этой компании: окружающие взрываются от совместного хохота, а я наблюдаю, как рядом задорно подпрыгивает пара конформистских мокасин.
От чрезмерного внимания дождя стволы будто голые. Подсчитываю сучья в ожидании, когда мы разъедемся по домам, девочка (вроде бы Лера, если имя верно наложилось на образ) встает рядом со мной под дерево и широко мне улыбается. Бесталанный музыкант никогда не предугадает нот, его шанс – подглядеть в тетрадь. Окидываю взглядом окружающих в поисках подсказки. Все заняты собой, кроме мокасин, направляющих мыски в мою сторону. Однако их хозяин нем. По наблюдениям, для игры не обязательно быть хорошим актером – участники верят в происходящее с той же легкостью, что древние люди в блюдце, покоящееся на трех китах. Таков общественный договор, в котором я не успел поставить своей подписи, не научился соблюдать правила, хотя искренность чревата проигрышем.
Лерин взгляд упрям. Поддавшись, рассказываю, как рисовал автопортрет в школе: скопировал лицо до реалистичного сходства и подвел к нему палку. Учитель тогда поставил мне три, так как рисунок не соответствовал седьмому классу: нельзя в двенадцать лет изображать тело в виде линии. А я выступил с защитительной речью моему произведению. «Оно – концепт, – заявил я, – все равно что черный квадрат Малевича, и главное в нем – идея. Развитие умственных способностей изображенного убежало ахилловыми шагами вперед по сравнению с физическим развитием тела – произведение следует трактовать исключительно из данных воззрений; также необходимо принять во внимание, что искусство от науки отличает субъективистский подход. Возможно ли поставить оценку картине Врубеля «Поверженный Демон»? Мне, конечно, не сравнивать свои таланты с гением серебряного века, но суть от этого не меняется». Речь мою прервали, когда я коснулся чести русского символизма, белки преподавателя покраснели, класс замер в ожидании (гневного взрыва?). Но учитель, понизив голос, сослался на сложность компоновки деталей картины и обещал обсудить предложенную концепцию вместе с директором и матерью после уроков. Я пожал плечами и сел на место. В итоге за работу мне поставили пять, но на доску почета не повесили, несмотря на мои упрямые намеки добавить категорию «Символизм» к уголку грамот учеников 7А.
Странная история из детства не отпугивает Леру, напротив, она теснее льнет ко мне. Чем я привлек ее? Оглядываю ноги-палки в промокших кедах и пожелтевшие звезды, клетчатую рубашку, на которой загнулся край; прячу за спину свернутую в трубочку зеленую тетрадь и жду, когда мне на голову спланирует лопух, и все догадаются о моем школьном прозвище. В неуемные терзания врываются хлюпающие мокасины, подступают так тесно, что мое ухо оказывается в заложниках.
– Димон-то не промах. Первый день, а уже бабу снял!
В замешательстве отворачиваюсь от блеяния и смотрю на небо, скованное тучами. Лера берет меня под руку, и мы следуем за всеми. Чего хочет от меня это эфирное создание? Прямой нос, ровно подстриженные каштановые волосы до плеч (уверен, стоит их отвести – и обнаружатся уши с заостренными по-эльфийски кончиками). Все так, ведь ее темно-вишневые глаза будят во мне сказочные сны. Лесной проводник в фантасмагорию. Она ловит мой изумленный взгляд; ее губы чуть приоткрыты, будто у нее тоже случилось видение, которое она не в силах себе объяснить. Чарующие полные линии, кажется, созданы для безмятежных колыбелей. Что-то бесконечно знакомое проглядывает вдоль изгиба ее плеч, сквозит в движениях ее рук…
Взмах крыльев голубя над головой возвращает реальность, стиснутую между сцепленными пальцами. Лера вынимает ладонь из моей руки и поправляет волосы, кулон слетает с шеи – подхватываю, теперь на моей линии судьбы умещается ее золотая цепочка. Мы отстали, крики и топот далеко впереди.
– Это александрит. Отец подарил его, когда я выиграла соревнования по спортивной гимнастике. Специально привез из Шри-Ланки. Символ процветания. Он меняет цвет в зависимости от освещения.
Валерия вертит камень на солнце, а я, завороженный, смотрю, как от еле уловимых поворотов льется ее юбка.
– Смотри, – наклоняет голову под углом. Повторяю за ней, не отводя от нее взгляда.
– Давай помогу, – протягиваю руки, чтобы надеть цепочку, пока она приподнимает волосы на затылке. Аромат ее кожи пьянит – он родом из детства – благоухающая ваниль.
Vanilla. Вид орхидных. Основная страна-поставщик – остров Мадагаскар. По внешнему виду нечто среднее между большим горохом и узеньким кабачком. Ничего, что бы походило на пряный запах, таящийся в коробочке. Вот она, моя трагедия: аромат выветривается, когда за восприятие берется ум. Разложит на составляющие и нивелирует целое, он что волчий табак: наступишь – и по сердцу разнесется смрад. Анализ чувств, чертеж отношений – мысль превращает все в фарс, в конструктор, в мусор. Позволь мне еще насладиться эльфийской грацией, вобрать легкости! Но нет, Лерины стрелы не поразят мой ум, не собьют с пути логического мышления – приближаюсь к ней ровно настолько, насколько позволяет личная гравитационная постоянная. Она расскажет о Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке, а я буду только кивать и замечать про себя, как это ей идет. Теплое Балтийское море – окунаюсь с головой и плыву вдоль дна, с наслаждением, согревая каждую клеточку, сознавая, что до холодной перемены считанные гребки.
И все равно, смена течения застает врасплох, когда Валерия приглашает к себе в отсутствие родителей: ночью целует меня в шею, а по моему телу идет дрожь, что острые лезвия. Я съеживаюсь. Она проводит ладонью по моим щекам, отказываясь принимать происходящее. Мы выключаем свет, раздеваемся и ложимся в постель… Через женщину, согласно тантрической философии, можно приблизиться к богу. То бог явно хтонический, из подземного мира, сотрясающий тело до мрачного основания. Я побывал в объятиях Гекаты[3].
Один писатель в интервью рекомендовал в трудные периоды читать Спинозу, другой – Марка Аврелия. Ерунда. Ни одна книга не помогает так, как «Откровения Ионна Богослова». Патологический, доведенный до максимума ужас бытия. Иллюстрации Дюрера к этой части Библии – неискаженная реальность; в отличие от Босха, который разносил части строф на отдельные картины, Дюрер вырезал видения Иоанна едиными, такими, какими они приходили пророку: черт, ангел, грешник, никакого деления по бракоразводному соглашению – сыночка маме, котика папе – все на гравюре в парадоксальном единстве. Кто делит мир на белое и черное, кто считает, что одному по заслугам, другому по праву? Природа ошибается, лепит без разбору, человек же ищет ей оправдание, ведь иначе – столкновение с непереносимостью бытия.
Существует редкая болезнь у грудных детей – «синдром бабочки». Кожа таких новорожденных не приспособлена к обычной среде. Малейшее внешнее воздействие причиняет им боль. Долго они не живут… Я – такая бабочка, у которой болит вся изнанка – сердце, душа, желание жить. По Фрейду, человек балансирует между двумя полюсами притяжения: созидание и разрушение. Мне же присуще неизменное тяготение к единственному – небытию.
Касаюсь Лериной щеки, кутаюсь в одеяло и сбегаю в ванную, где в спешке отмываю себя от чуждого запаха. А после готовлю завтрак, скрывая ужас за жаром заботы. Если она и догадалась о том, что я почувствовал, то ее актерским способностям можно позавидовать: в равной степени ей удалось это скрыть и от меня, и от себя. И для окружающих мы – одна из тех идеальных пар, которым принято завидовать, все потому, что красивое ухаживание за девушкой доставляет мне истинное удовольствие. Несомненно, это знание передалось мне генетически, вместе с талантом к химии, по крайней мере, так утверждает Андрей, выдавливая очередной прыщ на подбородке. Его, в отличие от меня, жизнь не балует женским вниманием: вдобавок к полноте, лоснящимся волосам и обгрызенным ногтям, он носит скверный характер. И если мое молчание воспринимается представительницами прекрасного пола маской, предваряющей загадку, то его – скудоумием. Собственно, на этом и строится наша дружба с синими мокасинами: он завидует мне и проявляет злость в агрессивных шутках, но так как меня окружают девушки, которых на нашем факультете не так много, ловит свой шанс; я же следую за ним из-за врожденной неспособности сходиться с бытовой реальностью. Нельзя сокрыть очевидное: я, признаюсь, высокоинтеллектуальный асоциальный фрик. Вот одна из моих костлявых тайн: когда ночь вырывает меня из сна, ум не спасает, потому что во мраке комнаты отсутствует кислород – я дико и позорно кричу: «Мама!». И по утрам ем ее оладьи.
Осознание, что это ненормально, пришло не сразу – годами воспринималось как данность, пока однажды в темноте из меня не вырвался бессмысленный вой: мне восемнадцать, а я не переношу темноту. Просыпаясь по ночам с сухим горлом, иссушенным кошмаром, с приступом соматической астмы, я верю, всем изболевшимся сердцем верю, что умираю, и как только вера перерастает в физическую обреченность, начинаю истошно кричать, забывая о собственной гениальности. В тот момент, воистину, ее нет – есть лишь дикий животный страх, что сердце откажет. Я несусь в беспамятстве, разглядывая закоулки подступающей смерти, теряю тело, но вот мама начинает его тихонько трясти, целует в лоб, наклоняясь надо мной, обнимает и садится рядом, включая лампу на прикроватном столике. «Розовенький», – улыбается она, долго гладит по спине, придерживая второй рукой, и идет заваривать травяной чай. Пока она кипятит воду на кухне, я включаю верхний свет и осматриваю себя в зеркале, придирчиво прощупываю пальцами грудную клетку, приглядываюсь к каждому миллиметру в поисках мертвой синюшности. Выдыхаю, заворачиваюсь в одеяло и жду, пока вернется мама с успокоительным напитком. Такие ночи не правило, но на одно подобное пробуждение приходится несколько недель содроганий и седых (маминых) волос. Не представляю, возможно ли пережить этот ужас в одиночестве, хотя корень его – рассуждаю после при дневном ярком свете – именно в этом самом одиночестве. Но дальше мои рассуждения не идут, что-то с силой выталкивает меня к другим темам, наверное, это что-то – страх сойти с ума.
Моя девочка – так я начал называть ее на втором курсе, когда мы встречались уже больше года – хорошо читает сказки. Они очень ей идут. Временами, забывая разбирать смысл, единственно слушаю ее грудной голос, слежу за движением губ, пока мы лежим, одетые, на мягком пледе в ее кровати. Она держит в руках книгу и разглаживает корешок или подносит ее к лицу и вдыхает запах типографской краски. Иногда откладывает чтение, гладит меня по волосам и рассказывает истории из школьной жизни. Они сводятся к тому, что она была самой желанной девочкой в классе, но никого к себе не подпускала, потому что ждала меня. Я всегда киваю: так уютно, что не хочется вспоминать, что секс у нас ни разу не повторился. Мучаю ли я ее? Не знаю, она для меня – Богиня, повторяю ей вновь и вновь, падая на колени и вручая букет гербер. Как-то она проговорилась, что чувствует себя Любовью Менделеевой[4]. И хотя сравнение неудачное – я вовсе не поэт – расстроить ее иллюзии не в состоянии, ибо наши фантазии так гармонируют друг с другом.
Но рай всегда заканчивается традиционно: «Она» вкушает яблоко, поддается скользкому «Гаду» – на следующий же день передает знание «Ему». Изгнание из Эдемского сада на даче: мы читаем Бориса Виана, когда при упоминании «Иисуса на большом черном кресте» [5] она нервно вздыхает, закладывая книгу большим дубовым листом:
– Дима, – ее голос непривычно звонок. – Нам нужно расстаться.
– Что случилось? – поднимаюсь с земли, прикрывая глаза от слепящего солнца.
– Мы с тобой олени.
– Что?!
– В болоте. Нас засасывает на дно, но нам так уютно, что мы не можем пошевелиться. Ты сам мне рассказывал.
– Что олени умрут, если человек не сожмет им ноздри?
– Да, чтобы они поняли, что умирают.
– Ох, и пафосно ты говоришь.
– Дима, такой человек появился.
– Вечно у тебя проблемы с метафорами.
– Дима, прекрати, – но я уже надеваю кеды и направляюсь в сторону калитки. – Ну, куда ты сейчас поедешь? До электрички идти минут сорок.
Улыбаюсь и машу на прощание. Она права. Что-то определенно во мне не так. Дело ли в механическом клапане в моем сердце, что отвратил от меня желание к живому и потному? Мне не нужен секс, мне не нужна страсть, природа моих чувств исключительно платонична, а это фатально для молодого человека моего возраста – уничтожаю себя фактами, пока бреду, обливаясь потом, до вокзала. И все же в ее округлостях, в ее голосе содержится нечто, что тянет и отталкивает меня одновременно, нечто, чего я боюсь и жду. Два года с Лерой, двадцать четыре месяца тишины – действие пакта о ненападении, мир без панических атак. Неужели теперь они вернутся? При мысли об ускользающем спокойствии я холодею и желаю повернуть назад, но передо мной уже двери электрички. Стук колес, встречный ветер, накрапывающий дождь. В такую погоду хорошо читать «Мастера и Маргариту» или переживать драматичные сцены с прощанием. Жаль, у меня не было ни первого, ни второго.
2
После расставания с Лерой я потерялся для социальной жизни в лаборатории и учебниках по микробиологии – мама заглядывает ко мне в комнату и уговаривает лечь в постель. Часто вижу ее такую: растрепанную, просыпающуюся в два часа ночи от беспокойства, что взрослый сын еще не спит… Но за два года я изменился, меня больше не удручают утренние оладьи, театрально-наигранные отношения, загадочное распределение физических благ… Все лишнее отошло на второй план, наступило время для тихого счастья: многочасовая работа освобождает и от кошмаров, и от привычных терзаний. Не это ли называется примирением с судьбой? В любом случае, более умиротворенное и покойное состояние мне незнакомо.
Мои первые научные публикации, посвященные действию Т-хелперов, вызвали интерес со стороны профессионального сообщества, и передо мной, наконец, открылись заслуженные перспективы. Когда жизнь идет в правильном направлении, можно ли выдохнуть? Увы, нет, ведь Мойры[6] любят вплести новую нить: лечащий врач настоял на смене клапана. Мне предстоит операция, и в случае отсутствия осложнений – неделя больницы и месяцы терапии. Отложенная на полгода жизнь, отсроченный выпуск из ВУЗа, ехидное «в случае…» – после посещения врача прилепляюсь носом к окну в ожидании, пока вестибулярный аппарат отмерит верный угол. Одиссей в преддверии заточения у Калипсо[7].
Мое сердце отключат, оно не будет перемещать кровь – на несколько часов я превращусь в безвольную куклу. В лучшем случае, впоследствии – пара дней интенсивного загара в реанимации. Единственное, что помогает справиться со страхом – сказки Валерии. Она приходит с ними вечером, накануне отъезда в больницу, забирается ко мне в постель и хрустит зелеными яблоками и страницами пухлой книги. Мелкие вдавленные буквы не разобрать на темно-коричневой обложке – не узнать, что она мне читает; сквозь дрему до меня доносится рассказ о снежных заносах и упрямых героях, которые, преодолевая стихию, выбираются со станции. Куда они направляются? Вместо того чтобы пережидать в тепле, им непременно нужно сражаться с непогодой. «Существует птица Нулла – редкий вид, которая поет за закрытым окном, – прислушиваюсь я то ли к Лере, то ли к голосу из сна. – Ее пение можно расслышать в зимнее время, если направить внимание за узорчато-непроглядное стекло, на улицу, где ярко светит солнце. Но едва ли можно надеяться узнать, кто же она на самом деле – та, которая поет прекрасную и тоскливую песню. Немногие путники решались посмотреть на нее, да и то – те, кто осмеливались, делали это по принуждению, ведь никто, у кого есть теплый дом, не впустит холод с улицы. Но ходят слухи, что путник, который вылезает в окно и вопреки сильнейшему желанию уснуть на морозе ловит перо, слетевшее с ее хвоста, узнает ее имя; однако случаи те редки, да и рассказы о них неправдоподобны»…
Хрустящие сахарные сугробы и солнце, неразличимое за горячей дымкой – прогулка по зимней пустыне продлилась бы до самого утра, но мой сон разрезает хлопок. Заспанный, я решаю, что это Валерия, но в пустой комнате только тьма, живот крутит едким воздухом – светом, превращенным в отравленный запах. Еще хлопок – это форточка, сквозняк толкает дверь, треплет листы в открытый книге. В комнате под потолком начинает кружить снег. Схватить бы одеяло и вымести его на лицу, но руки вязнут в липкой темноте, в чужих бархатных волосах – вдох – в окно льется утро. Пятнадцать минут до звонка будильника.
Новые джинсы, белая футболка – долго выбираю, что надеть; мама удивленно наблюдает за сборами. Одно небо все принимает, бесконечно расцветая над головой, чтобы после заползти за облупленный угол серого потолка и оставить наедине с анестезиологом, убеждающим, что маска пахнет шоколадом. Не знаю, лгал ли он – сознание покидает меня сразу, мой счет не успевает дойти и до двух. После возвращается темнота. Но иная, очищенная от власти Морфея: темнота – возможность, темнота – глубина, темнота, в которой можно размышлять и плавать. Если бы время в обыденной жизни развивалось также, то каким количеством возможностей мы бы обладали! Ведь времени в темноте нет, оно лишь ось координат, и ты – точка на XYZ и t – паришь в четырех измерениях, немного скованно, потому что без привычных осей воля проявляется иначе. Если бы во тьме были дневные оценки и эмоции, можно было бы сойти с ума, однако их нет, оттого ты, беспечный ребенок, подвисаешь в черном материнском молоке.
Свет зовет меня через пару дней врачебным фонариком, бьющим в глаза. Собственное сердце уверенно перекачивает меня в скучную палату: несколько дней длится сопротивление тому, что я есть снова.
Выбираясь из дремы к полудню, шаркая на кухню и глотая варфарин, отшатываясь от зеркала как от чумы… не перестаю удивляться тому, что организм стремительно привыкает к новому клапану, заставляющему быть и биться не только за себя, но и за других: Валерия ждет ребенка (наверное, младенца с каштановыми волосами и голосом, исцеляющим поколения… Как я желаю, чтобы он повторил мою судьбу наоборот!). Свадьба Леры для меня – смещенный центр Вселенной, мне неуютно от одного упоминания о ней. Увильнуть бы по причине физической слабости, стать тенью на дальних рядах!.. Но все прозаичнее: всего лишь теряюсь в собственных брюках (минус восемь килограммов со дня операции). Отсутствие подходящего костюма обнаруживается, когда я оказываюсь в полотенце перед шкафом, и до выхода мне остается полчаса. Большим фриком уже не стать – с этим лозунгом зацепляю за пояс красные подтяжки (всего-то выдержать церемонию и прогулку, а после меня отрапортуют домой по предписанию врача по причине болезненной восприимчивости).
– Дима, хорошо, что пришел, – Валерий Александрович, отец невесты (Валерия Валерьевна – имя для логопеда), задумчиво осматривает меня. – Я не заметил тебя в ЗАГСе. Иди, посиди где-нибудь, а то бледный, как смерть.
Смех удаляется с каждой секундой, расходится над водой – Лера уже не девушка-эльф, но женщина-лебедь. Достойное видение для паренька, чей тощий зад пребывает среди семейства металлических утят, когда над ним – маковки Новодевичьего монастыря. Отворачиваюсь от всех и, скрываясь за деревьями, пинаю камушки, пока не застываю над вороной, пригвожденной к земле. Черные, как смоль, крылья-лезвия замерли, устремившись вверх, будто она слишком долго представляла полет, а сил взлететь не хватило. Отшатываюсь назад и падаю на руки: она мертва. Какая неестественная напряженность, словно смерть не способна ослабить жизненной хватки! Отряхиваю руки и снова склоняюсь над вороной. Угольный клюв повернут влево, тельце сведено судорогой. Каталептическое окоченение.
– Какая неестественная поза, – раздается за спиной.
Разгибаюсь и краснею, в первые секунды мне кажется, что говорят не о трупе, а обо мне.
– Верно, столбняк.
– Или стрихнин. Птичка неудачно покутила.
Поднимаю глаза, складывая губы в поисках колкости, но замираю перед невысоким мужчиной лет тридцати с ямочкой на подбородке. Я запомнил его по широким скулам и взгляду, от которого в груди восставала зима, и по тому, что в его присутствии Лерин отец сглаживал командорские черты и вступал в диалог. И вдруг этот незнакомец («Никогда не разговаривайте с незнакомцами» [8]), опускается на утку, спину которой только что согревали мои ляжки.


