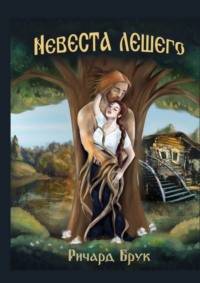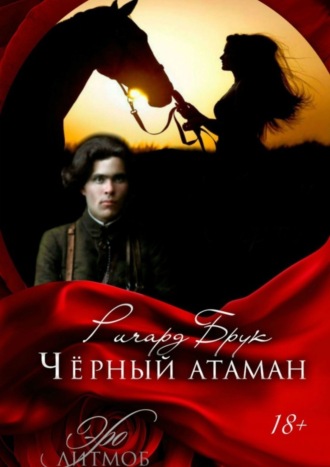
Полная версия
Чёрный атаман. История малоросского Робин Гуда и его леди Марианн
– Шо Нестор?
– Он… тоже дурной?..
– Та ни! Он, почитай, и не пьет почти, в поравнении с иншими хлопцами! Тай Галя не одобряет, не любит вона, когда атаман в подпитии.
Опять эта Галя… вероятно, Махно сейчас с ней – время позднее, анархистский праздник давно затих, все разбрелись кто куда – ну так и где же быть мужу, как не возле жены?.. Наверное, минувшей ночью он тоже пошел к своей Гале, пошел прямо от нее, случайной любовницы, а с ней даже не переспал – поимел, как съел миску вареников в придорожной корчме.
Вареники вдруг показались тошнотворными, как и вся остальная снедь на столе, чересчур богатом для двух женщин, Саша положила спичку и отодвинула миску.
– Ты шо это? – насторожилась Дуня.
– Ничего.
– Та я уж бачу, шо «ничого»! Ой, а чого глаза-то у нас на мокром месте?.. Дааа, присушил тебя наш батька атаман, как есть присушил!
Присушил. Это было точное слово, до сердечной боли точное. Присушил… именно так она себя и чувствовала. Вспомнился вдруг колдун из «Страшной мести»11, которого она боялась в детстве, и несчастная Катерина, чья жизнь закончилась так плохо; Саша воспротивилась – в который уже раз – и словам Дуняши, и собственному сердцу, и телу, что бесстыдно томилось в сладкой тоске:
– Это не из-за него!.. Отстань ты уже со своим атаманом, Бога ради, на вашем Несторе Ивановиче свет клином не сошелся!
– Чегось-чегось гутарите, Ляксандра Николаевна? – бухнул вдруг с порога веселый и громкий, хмельной голос. – На кому це свит клином не сошевся?
В хату без приглашения завалился Щусь, неизвестно откуда взявшийся – подкрался, как вороватый кот на мягких лапах, да и прянул на зазевавшихся мышей. Вместо папахи на нем была бескозырка с надписью «Иоанн Златоуст», гусарский мундир распахнут на груди, из-под него торчала тельняшка, в руках Федос держал гитару и белую коробочку, перевязанную розовой лентой.
Дуняша встала ему навстречу, вроде как недовольная, но Саша-то видела, что насмешливая болтушка мигом преобразилась в ласковую кошку, только что не замурлыкала:
– Аййй, Федос, вот тоби только и не хватало на мою голову! Нешто звалы тебя?..
– А то не? Товарищ Щусь как вольный анархыст везде у себя дома, и везде ему рады! – оскалился «красунчик» и метнул взглядом на затаившуюся Сашу. Сразу захотелось поглубже закутаться в шаль, прикрыть шею и грудь, отвернуться, чтобы не пялился…
– Чой-то у тя там? – Дуня потянулась к перевязанной коробочке, он сразу не отдал, поднял над головой:
– Та ось гостинчика принес, цукерки французские, а мож, немецкие, пес их разберет!.. Товарищи анархысты, прибывшие с Катеринославу, презентовали на вечерю…
Услышав про Екатеринослав, Саша встрепенулась, в душе воскресла надежда – как знать, вдруг она сумеет вытянуть у Щуся какие-нибудь полезные сведения, может, он назовет ей «товарищей из Екатеринослава», и получится через них передать весточку сестре?
Федос по-прежнему казался ей опасным – Дуня справедливо назвала его «дурным» – но все же не таким опасным, как трезвенница Галина Андреевна; к этому парню, шумному, развязному, скорому на все поступки, можно и нужно было поискать подход. Да и положение Щусь занимал видное, командовал собственным отрядом, а значит, распоряжался лошадьми, и мог дать людей в сопровождение. Не зря же Сева рекомендовал его как «правую руку Махно», и нетонко намекал, что с Федосом нужно считаться, и лучше даже – дружить… Ох, только бы не перехитрить саму себя, не получить от такой «дружбы» куда больше, чем нужно.
Дуня тем временем отняла у Щуся коробку – сменяла на смачный поцелуй, и, вырвавшись из объятий, с красными щеками, хихикая, побежала за самоваром:
– А ось мы зараз чайку изопьем, да с цукерками хранцузскими!..
Федос плюхнулся на лавку напротив Саши, вроде бы не глядя на нее, начал настраивать гитару, что-то мурлыкал себе под нос, а потом резко ударил по струнам и запел:
– Анархыя-мама сынов своих любит,
Анархыя-мама не продаст!
Свинцовым огнем врага приголубит,
Анархыя-мама -за нас! – и дальше в таком духе, куплетов пять-шесть. Голос у него был прекрасный, приятного тембра, но очень уж громкий, так что и не пел товарищ Щусь, а, как сказал бы Сашин учитель музыки – горланил…
Она вежливо терпела, не морщила нос, даже пару раз одобрительно улыбнулась, словно ей нравился бравурный военный марш в таком необычном исполнении. Федос умолк, переводя дыхание, ухватил из миски вареник, макнул в сметану, засунул в рот, прижмурился от удовольствия:
– Уххх, смачно! – облизал пальцы, и снова взялся за гитару.
На сей раз из-под его пальцев полилось что-то более мелодичное и печальное, мгновенно отозвавшееся в сердце Саши острой тоской… и воспоминанием… ночь, темнота, табак и горячая степь, свирепые синие глаза, ласковые руки… а уж когда Федос затянул:
– Ой, чей-то кинь стоит,
Що сива гривонька.
Сподобалась менi,
Сподобалась менi
Тая дiвчинонька… – узнала и песню, что звучала вчера под окном горницы.
«Присушил…»
Дуня принесла чай, разлила, присела рядом с Щусем, подперев голову рукой и вроде даже пригорюнившись, слушала про коня, дивчину и доброго молодца.
Когда он допел и длинно, нежно, со значением взглянул на Сашу, та смогла только похлопать ладонью о ладонь, изображая аплодисменты… Он фыркнул недовольно, потряс головой, как жеребец:
– Та вы чегой, Ляксандра Николавна, думати, я тут пред вами как в тиятре або в кабаке выступаю?.. Куплетист, да? Промежду прочим, я людына вильна, и спиваю токмо для щастя и радости, как птица поет! Уразумела, панночка?..
– Простите меня, товарищ Щусь, я вовсе не хотела вас обидеть. У вас прекрасный голос… и… репертуар.
– Чегось? – Федос повеселел, когда она похвалила его голос, но слово «репертуар» было незнакомым, и он снова насупил брови.
– Вы поете хорошие песни.
– Для тебя, миж иншим, и спиваю, панночка! А ты сидишь, эвона, точно жабу проглотила!
Дуня ткнула его в бок:
– Оставь ты барышню, Федос, ей-Богу! Вишь, она и так сама не своя… – и что-то прошептала на ухо, хихикнула, Щусь же глупо и сально ухмыльнулся:
– Эвона как… чого ж видразу не сказала про таку справу? Я б тады краще частивки заспивав! – и снова ударил по струнам:
– Эх, яблочко
Да ты моченое-
Едет батька Махно,
Знамя черное!
Ох, яблочко
Да на тарелочке,
Не ухлопали б меня
В перестрелочке!
Анархыст молодой,
Зачем женишься?
Придет батька Махно-
Куда денешься?
Щеки Саши запылали, как маков цвет, она уткнулась в свой стакан с чаем, как еврей в Тору, Щусь же, перемигнувшись с Дуняшей, продолжал, как ни в чем не бывало:
– Эх, яблочко,
Сбоку зелено,
Мне таким как ты
Давать не велено!
Оборвал сам себя, шумно глотнул чаю, бросил в рот «цукерку», сжевал и подмигнул:
– Не велено, так ведь, панночка?.. Або сама не хошь?..
До Саши наконец-то дошло, что все эти гастроли в ее честь затеяны неспроста, и Дуня с Щусем, отлично спевшиеся и понимавшие друг друга с полуслова, просто издеваются над ней… то ли со скуки, то ли просто выживают ее из комнаты, чтобы остаться наедине. Недоумевая, почему Дуня не сказала сразу, что у нее просто-напросто любовное свидание – она и сама была рада-радешенька убраться подальше от «вольного анархыста» – Саша встала из-за стола, поблагодарила «за ужин и прекрасно проведенное время», и пожелала обоим спокойной ночи. Пожелала от души.
Сна у нее не было ни в одном глазу, но темная тишина и мягкая подушка вчерашней спальни казались сейчас куда более желанным пристанищем, чем импровизированная «гостиная» и музыкальный салон с романсами и частушками…
Первый день в Гуляй Поле дался ей нелегко, и нужно было обо всем подумать… что-то придумать, решить… и, может быть, тогда получится заснуть, и не прислушиваться отчаянно к каждому шороху за окном, гадая – он или не он? – и не чувствовать тупой горячей иглы, застрявшей в сердце, и сладкой ноющей боли внизу живота.
***
…Войдя в горницу, Саша затворила за собой дверь и заложила засов – к счастью, он был. В полной темноте (ставни на окнах были закрыты снаружи) повернулась, чтобы ощупью пробраться к столу и зажечь лампу, и тут же почуяла, что не одна. Смешанный запах табака, пороха, горячей степи и острого мужского желания – она уже не могла его спутать ни с каким другим.
«Нестор!..»
Он налетел сзади, бесшумно, неистово, как хищная степная птица на беспечную добычу, схватил в объятия, слегка подтолкнул, опрокинул на кровать, и не на спину – на четвереньки… Придвинулся вплотную, обхватил еще крепче, руки сжимают грудь, на ухо – шепот, жаркий, безумный:
– Любушка, пусти до себя… Целый день только про то и думал, только тебя и ждал…
Саша потеряла голос и дыхание, сама прижалась к нему, как смогла, подставилась течной кошкой, пошире развела бедра… ни о чем не думала, ничего не стыдилась, оглушенная страстью и счастьем. Задрожала, когда он смял и поднял на ней юбки, нетерпеливо спустил белье, просунул руку в тесную щель – и пальцами утонул в женском соке, зарычал:
– Чую, кохана, ждала меня!
– Да… да!.. – выдохнула, признаваясь, приняла в себя глубже, сжалась: не было сил терпеть, но тут он убрал пальцы. – Нестор!..
– Тихише, любушка… вот он я!
Вошел сразу, на всю длину, до самого корня, да еще и обнял крепко-накрепко, одной рукой за грудь, другой – под самым животом. Не сдержался, застонал:
– Ааааа… тесная ты!.. Саша, любушка моя…
В ней он был горячий, твердый как камень и такой большой, что, казалось, не должен поместиться – но помещался, и она уже не боялась, принимала снова, и снова, и наслаждение нарастало с каждым его яростным толчком. А рука Нестора у нее под животом скользила вверх-вниз, в одном ритме с членом, и заставляла истекать сладостной, ненасытной болью…
Он дышал рвано, хрипло, захлебывался короткими стонами, целовал Сашу все жарче, ласкал бесстыдно, и она, насаживаясь на него, забывшись, потерявшись в безумном удовольствии, неизведанном ранее, снова и снова шептала его странное, колдовское имя -до слез, до полуобморока…
…Очнулась не зная когда, уткнувшись лицом в подушку, по-прежнему в его объятиях; он лежал на ней, прижавшись всем телом, гладил плечи, целовал шею… она чувствовала, как по бедрам стекают теплые капли его семени, и запоздало подумала, что глупо и неосторожно отдается ему вся – словно он муж, венчанный с ней перед Богом. Но венчали их только месяц, ясный, холодный, что смотрел в окно, да гитара, нахально бренчавшая за стеной…
Нестор задышал спокойнее, глубже, сердце приглушило барабанный бой, застучало размеренно, ровно. Атаман задремал, и Сашу саму повело в нежную истому. Хотелось закрыть глаза, провалиться поглубже в уютный сон, в стальном кольце Несторовых рук, под защитой его тела – худого, но крепкого, точно кнутовище из сыромятной кожи.
Кости точно истаяли, превратились в желе, но едва она слабо пошевелилась, чтобы перелечь, он сразу вскинулся:
– Куда, голубка? Ще ночь. Поспи со мною трохи.
Рассудок нашептывал, что пора бы протрезветь, очнуться от наваждения, и если уж не прогнать Махно прочь (он здесь был хозяином, а она лишь пленницей), то хотя бы встать, раздеться, помыться… и отыскать свои вещи, с утра отобранные Дуняшей. Но как встанешь, пока он так держит?.. Попроситься по нужде?.. Наверное, тогда отпустит, но у нее язык не повернулся, несмотря на то, что любые игры в женскую стыдливость теперь выглядели глупейшим жеманством.
Нестор точно мысли ее прочитал, хмыкнул, ослабил хватку, скатился с нее, перелег на спину, вытянулся:
– Тебе, може, треба куда? Так иди, якщо треба…
Саша неопределенно покачала головой – полученное дозволение могло еще и пригодиться – и решилась спросить:
– А… вам… вам, Нестор Иванович, уходить не пора? Поздно ведь…
Рука с жилистым запястьем, прикрывавшая зевок, замерла, опустилась… по губам Махно скользнула не то усмешка, не то гримаса:
– Вот те на… Гонишь меня, любушка, або що?
– Я не гоню… – на всякий случай пояснила Саша, и тут же не стерпела, вспыхнула от обиды, накопившейся за день, и – как снежок в лицо метнула:
– Вас, наверное, супруга ждет-не дождется… ищет повсюду, переживает, а вы здесь.
Она ждала, что он рявкнет в ответ, и хорошо, если за косу не схватит, за то, что посмела всуе помянуть «морганатическую», но Махно только проворчал:
– Яка ще «супруга», не разумею? – с таким удивлением, словно и вправду «не разумел».
– Галина Андреевна… Разве она не твоя жена? – Саша решила, что пойдет до конца, раз уж затеяла этот опасный – и совершенно лишний – разговор.
Несторовы свирепые глаза закатились под веки, руки сложились на груди, как у покойника… она на секунду обмерла, и вдруг поняла, что ему весело.
Не ошиблась – он уже нахально скалил зубы в самодовольной усмешке:
– Эвона что… Она за ним сохнет, а он и не охнет!
– Ты не ответил!
– Кошка ты дика…
Саша разозлилась, как, бывало, злилась на мужа, когда подходила к нему с чем-то важным, трудным, волнующим до слез, а он все сводил на шутку. Еще больше разозлилась на собственную глупость, на попытку затеять светский разговор с этим диким зверем, самцом, окруженным гаремом самок, податливых и подобострастных с ним – но готовых сожрать друг друга за случку вне очереди… Отвратительная картина.
«А тон?… Боже, я взяла такой тон, словно и впрямь обижаюсь, ревную, словно имею на него права! Какая пошлость…»
Наверное, Нестора Махно это и позабавило, как сцена из водевиля в провинциальном театрике.
– Любушка моя… – он потянулся обнять, Саша инстинктивно уперлась ладонями ему в грудь, отталкивая соблазн, но Нестор не уступил, атаковал снова, смял сопротивление, опрокинул, навис сверху, снова засмеялся – с торжеством, хотел поцеловать в губы.
– Нет! – она отвернулась, его губы скользнули по щеке… Махно фыркнул сердито, прижал сильнее, но к поцелую принуждать не стал. Тело атамана под расстегнутой гимнастеркой было горячим, пахло табаком и порохом, горьким медом, ночными сладкими травами и острым мускусом – это сочетание сводило с ума, пробуждало стыдные желания, за секунды превращало благовоспитанную, сдержанную женщину в дикую кошку… в самку…
Она снова была в жару…
Надо бороться, оттолкнуть, прекратить это все, закончить раз и навсегда – но Саша, точно околдованная, обняла, прильнула, обвилась вьюнком: хотела ощутить его силу.
А ему словно мало казалось ее бесстыдства, хотел усмирить, подчинить полностью, чтобы знала, кто тут хозяин. Могучая, страшная сила таилась в нем, густо замешанная на пролитой крови… Страсть в нем горела жарко, как пожар в степи, и Саша с веселым ужасом понимала, что пропадет в этом пожаре.
Нестор начал раздевать ее, целуя, она взялась стаскивать с него гимнастерку, коснулась ладонями голого живота, впалого, твердого, как железо, и он дрогнул со стоном, точно схватил пулю, и вспыхнул как порох… член вздыбился норовистым жеребцом. Влажно, напористо толкнулся в нее, но не вошел глубоко, и Саша – ничего не могла с собой поделать – обхватила его за бедра и громко, по-бабьи, всхлипнула, когда твердый стержень вдруг покинул ее тело, и оставил ноющую, голодную пустоту:
– Не уходи!..
От этого зова он задрожал, взгляд сделался – страшным, и зарычал атаман раненым зверем:
– Оххх, засадить бы тебе до самого серця! Дюже хочу, но не можно… иди до мене, коханка, ближче! Да не бойся!
Она уже не понимала, что делает сама, и что делает он, но вдруг оказалась лежащей у него на коленях, и едва не утыкалась лицом в член, торчащий, как сабля, готовая к бою…
«О Боже, что же теперь?..» – Саша догадывалась – что, но не могла до конца поверить, и хуже всего, она определенно хотела продолжения, и никогда в жизни не была так возбуждена от близости с мужчиной, от его вида и запаха.
Нестор не удерживал ее силой, лишь нежно обнимал, наставлял:
– Дай руку… огладь жеребчика, не бойся… не укусит… отак… а теперь целуй его, поверх…
Она несмело прикоснулась губами там, где он хотел, и была вознаграждена алчущим, хриплым стоном… поняла, что делает все правильно, прижалась губами снова, провела языком… терпковато-соленый вкус, незнакомый, нисколечко не противный… особенный. Вкус Нестора. Саша снова лизнула его, уже уверенней, мягко и длинно, и вдруг вспомнила, как он назвал ее -«кошка дика» – и ощутила себя той самой кошкой, жадно лижущей теплые сливки…
«Ооооо, как же хорошо!.. Не стыдно… хорошо…»
Тут Нестор снова застонал, не сдерживаясь, низко, сладко, положил ладони ей на голову, мягко взял за волосы…
– Саша, Сашенька… – шептал, задыхаясь, словно сам себя не помнил, и то гладил ласково ее косы, то тянул, но больно не делал.
Жар, приливший к низу живота, все разгорался, а мужские стоны над головой были как острая приправа, и Саша не воспротивилась, когда он глубже толкнулся в ее рот, и взмолился – иначе и не сказать:
– Сашенька, бажана… возьми его щильнище… не бойся, в рот не спущу, вытягну…
Она совсем перестала бояться и смущаться – нравилось чувствовать его между губами, горячего и живого, нравилось нежить, гладить, ласкать языком, и угадывать, что он хочет, по движению или стону: сказать Нестор уже ничего не мог. Дыхание сбилось до хрипа… вдруг он резко схватил ее за плечи, хотел оттолкнуть, но она не далась, сама вцепилась ему в бедра, он сдался и, побежденный, зарычал… Саша ощутила, как на язык пролилась густая влага с его резким вкусом, и проглотила ее, не раздумывая, как в детстве глотала лекарство или незнакомое питье.
– Бешкетниця ты… панночка московська… кошка дика! – шептал он после, прижимая ее к себе, и смеялся – будто в смущении. А Саша держалась за него обеими руками и не хотела отпускать.
Глава 6. Овсей Овсеич
Прошла неделя с тех пор, как Саша, не доехав до Екатеринослава, попала в Гуляй Поле – и осталась здесь, не то пленницей, не то личной гостьей батьки Махно, атамана над атаманами, повелевавшего степью, расстилавшейся вокруг на добрую сотню верст…
Она не то чтобы привыкла – привыкнуть к этому странному месту, похожему одновременно на мирное красивое село, военный лагерь и шумный цыганский табор, было сложно – но по крайней мере научилась ходить по улицам без страха и не вздрагивать от каждого косого взгляда, конского топота или бухнувшего вблизи случайного выстрела…
Каждое утро она просыпалась под оглушительные вопли петухов и гомон птиц, под скрип тележных колес, стук топора и неумолчную болтовню баб у колодца; выбиралась из-под лоскутного одеяла, вслепую нашаривала одежду, и, наспех натянув кофту с юбкой, выходила из своей спаленки в общую комнату… Здесь ее встречала Дуняша, и вместо пожеланий доброго утра всласть подначивала и посмеивалась над «панночкой», что по ночам кричит, как будто ее черти мордуют, а по утрам спит так, что пушкою не разбудишь. Да еще что ни ночь, то бельишко угваздывает так, что не настираешься, и вроде соком «не жиночим, а чоловичим»:
– Змий, що ль, який до тебе прилетает на семи витрах, а, панночка?.. Дивись, як би змиенят не народила!
Саша покорно все это выслушивала, хотя порою руки чесались по-малоросски вцепиться в Дунину толстую косу и по-малоросски же выдрать нахальную бабу… да московское воспитание не позволяло. К тому же приставленная к ней не то нянька, не то тюремщица, отсмеявшись, начинала хлопотать, заталкивала ее в закут около печки, где уже была согрета вода да приготовлено чистое полотенце, и мыло, и гребень… И пока Саша умывалась – по-Дуняшиному, «наводила красу» – та успевала поставить самовар, а кроме чая, подать на стол горячий кныш и свежее масло, а еще галушки или яичницу с салом.
Дома, в Москве, это казалось бы привычным, нормальным: до революции, и даже после нее, у Владимирских всегда была прислуга… но после целого года гражданской войны, и тем более здесь, в анархистской вольной республике, «где все равны и панов нет», спокойно пользоваться чужим трудом было и стыдно, и боязно. Саша предлагала свою помощь – не была она неумехой и белоручкой, спасибо матушкиной суровости, Высшим женским курсам и работе в госпитале во время войны – но Дуня, хоть и дразнила ее «панночкой», упрямо качала головой:
– Нема чого тоби возиться с горшками та сковоридками! Ты роби, що тоби батьком Махном велено, а вдома я вже як-нибудь сама управлюся!
Тут Саше оставалось лишь густо покраснеть и уткнуться в свою чашку, и снова подумать, что же ей все-таки «велено» – то ли работать в культпросвете, помогая Севе и Галине готовить плакаты и писать речи для митингов, на радость грозному атаману батьке Махно, то ли ублажать по ночам Нестора – ласкового и страстного любовника… За прошедшую неделю она в этом так и не разобралась.
Он приходил к ней за полночь, уходил до света, и только однажды позволил себе забыться, крепко заснуть в ее объятиях… она прижалась к нему и тоже заснула – глубоко, спокойно… так вместе и встретили зарю. После атаман убежал, как любовник во французском романе – не одевшись до конца, через окно, выходившее в сад, и призраком растворился в молочном осеннем тумане. А Саша смотрела ему вслед и не могла унять ни сердцебиения, ни слез, ручьями льющихся из глаз, и сама не понимала, о чем плачет…
Гуляйпольские селяне на смех бы подняли «чутливу панночку», ну а приличные московские знакомые, не говоря уж о сестре Леночке, пришли бы в ужас. Как это так, мало того, что благовоспитанная девица благородного происхождения делит постель с мужиком, разбойником, анархистом, так еще и лаской привечает, и слезы льет, когда он уходит! Неслыханный скандал, позор… Революция и война все перевернули в России, поменяли верх с низом, быть дворянином, буржуем-эксплуататором вдруг стало смертельно опасно, пролетариат взял власть и наводил свои порядки в городах, вчерашние батраки занимали барские усадьбы, устраивали в них «коммуны», но сколько не притворяйся, что принял это страшное новое, согласился с ним – старое, привычное от века, глядит из каждой щелки, и только и ждет, чтобы напомнить о себе.
…После еды Дуня поторопила ее:
– Давай, панночка, пошевеливайся, мени хату прибирати треба, а тебя, чай, в кульпросвете заждались! Топай швидче, пока за тобой хлопцев не прислали…
«Что же я, все-таки под арестом тут, в вольной анархической республике? Караулят меня, чтобы не сбежала?» – вопросы повисали у Саши на губах, но она так и не решилась задать их вслух – может, и к лучшему… Кто знает, кому и что докладывает хваткая и не в меру зоркая Дуняша.
Она привычно собралась для выхода, в который раз спросив себя, куда же все-таки исчез чемодан, что был с нею в поезде, вместе с дамской сумочкой и документами, и нет ли надежды их отыскать… Бог с ними, с вещами, но без паспортной книжки, с таким трудом выправленной в Москве, попасть в Екатеринослав – или куда-нибудь еще, с учетом нынешней тревожной обстановки и полыхающих повсюду междоусобиц – будет ох как непросто… особенно после неожиданных гостин в Гуляй Поле.
Здравый смысл подсказывал обратиться с просьбой к самому атаману Махно, если уж не разыскать ее паспорт, то выписать новый документ (насколько Саша поняла намеки Всеволода Яковлевича, здесь, в вольной республике, изготовить здесь можно было любую справку – требовалось лишь дозволение батьки). Выписать новый документ и отпустить подобру-поздорову, на все четыре стороны…
Почему бы Нестору и не согласиться? Это стало бы завершающим – и гармоничным – аккордом их внезапного бурного «романа», если так можно было назвать неистовое, хмельное безумие, что заставляло мужчину и женщину сплетаться в сладострастных объятиях, вот уже семь ночей подряд.
Ночью они принадлежали друг другу всецело, и губы, языки использовали не для слов – для поцелуев… Наступал день, просыпался разум и металлическим голосом маменьки твердил, что Саша навсегда опозорила себя и честное имя семьи… что скоро она надоест атаману, или он решит, что негоже ему, крестьянскому вождю, делить постель с «панночкой», дворянкой, офицерской вдовой, и либо милосердно убьет сам, либо передаст надоевшую игрушку кому-нибудь из своих хлопцев… например, Щусю, что с первой встречи смотрит на нее голодными глазами, или другому командиру, тоскующему по женской ласке. А может статься и такое, что ревнивая «махновка», из атамановых бывших – или нынешних – любовниц, подольет отравы в чай или плеснет кипятком в лицо.
Галина Андреевна, «Галочка», как выяснилось за эти дни, в браке с Махно не состояла, учительствовала себе, да еще занимала должность «секретаря» при атаманском штабе.12 Вела она себя воспитанно, держала чинно, но каждый раз при взгляде на Сашу темные глаза ее превращались в револьверные дула… Виделись они не так чтоб часто, наедине оставались и того реже – Сева за этим следил – и все же Саша кожей чувствовала Галочкину неприязнь. Женский инстинкт не позволял ошибиться, а уж то, как Галочка, стоя или сидя рядом с ней, жадно тянула носом, гневно морщилась и едва не скалилась, чуя на сопернице запах Нестора, и вовсе пугало до холода в животе…