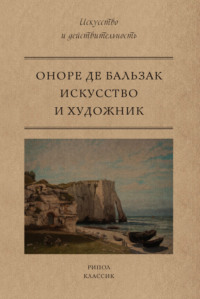полная версия
полная версияСочинения
Из окна открывается своеобразно-красивый вид на бесконечные саванны, начинающиеся за парком, которым оканчивается растительность этого кусочка материка. Дальше идут печальные водяные солоноватые лужицы, а между ними маленькие, белые тропинки, по которым двигаются рабочие, одетые все в белое; они сравнивают и собирают соль в кучки. Место это совершенно лишено растительности и, благодаря соляным испарениям, даже птицы избегают пролетать вблизи него; а на песках кое-где растет жесткая, маленькая травка с розоватыми цветочками и дикая гвоздика; далее озеро морской воды, с песками дюн, а вдалеке Круазиг, который представляет из себя в миниатюре город, окруженный, как Венеция, отовсюду открытым морем; а еще дальше – безбрежный океан, волны которого разбиваются о гранитные рифы и, оставляя после себя пенистый след, делают еще более рельефными причудливые формы скал. Общий вид этой картины действует на душу облагораживающим образом, но вызывает чувство грусти, как и все прекрасное, он пробуждает сожаление о чем-то неведомом, о чем-то безгранично-высоком, доступном только избранным душам. Поэтому дикая прелесть этого места могла нравиться только людям, обладающим высоким умом или испытавшим большое несчастье. Эта пустыня, где солнце отражается в воде и в песках и белым светом заливает местечко Батц и наводняет снопом лучей Круазиг, поглощала целыми днями внимание Камиль. Она редко оборачивалась в сторону очаровательно-зеленого пейзажа, в сторону рощ и цветущих изгородей Геранды, которая стоит, точно невеста, вся в цветах, в лентах, в вуали и полном наряде. Всякий раз при этом Фелиситэ испытывала чувство щемящей, неведомой ей раньше боли.
Калист, едва завидев флюгеры ее дома из-за терновника и изогнутых верхушек сосен, почувствовал сразу, что ему точно стало легче дышать. Геранда была для него тюрьмой, вся жизнь его сосредоточилась в Туше. Кто не поймет, какой магнит привлекал сюда этого молодого, чистого юношу? Любовь, похожая на любовь херувима, заставлявшая его пасть к ногам той, которая была для него недосягаемо-высоким существом еще раньше, чем стала для него женщиной, любовь эта была настолько сильна в нем, что не слабела, несмотря на непонятный отказ Фелиситэ. Чувство это, скорее потребность любить, чем любовь, вероятно, не избегло беспощадного анализа Камиль Мопен, и в этом крылась причина ее упорства. Калист, конечно, не подозревал этого благородного движения ее души. Кроме того, здесь повсюду блестели чудеса современной цивилизации тем более ярко, что они представляли полный контраст с Герандой, где казалась роскошью даже бедность дю Геников. Здесь перед восхищенными взорами молодого невежды, знакомого только с бретонскими лошадьми да с вересками Вандеи, открылась вся парижская утонченность нового для него мира; здесь он впервые услыхал неведомый, звучный язык. Калист услыхал здесь поэтические аккорды чудной, удивительной музыки XIX столетия, где мелодия и гармония одинаково хороши, где пение и инструментовка достигли необыкновенного совершенства. Он познакомился с произведениями богатейшей живописи французской школы, заместительницы итальянских, испанских и фландрских школ: талантливые произведения стали встречаться так часто, что все глаза, все сердца, утомленные лицезрением только талантов, громко требуют гениального творения. Он прочел богатые содержанием, глубокие сочинения современной литературы и они произвели большое впечатление на его юное сердце. Весь великий XIX век открылся перед ним во всем своем блеске, со своими богатыми вкладами в критику, со своими новыми идеями, с гениальными начинаниями, достойными гиганта, который, спеленав юный век в знамена, укачивал его под звуки военного гимна, под пушечный аккомпанемент. Калист, посвященный Фелиситэ в значение этих великих событий, которые нередко проходят незаметно для самих действующих в них героях, нашел в Туше полное удовлетворение непреодолимому влечению ко всему чудесному, которым всегда отличается его возраст. Здесь испытал он впервые преклонение перед прекрасным, испытал первую юношескую любовь, которая не переносит никакой критики. Ведь так естественно, что легкий огонек быстро разрастается в сильное пламя! Он здесь прислушивался к легкой парижской иронии, к изящному, насмешливому разговору, который составляет особенность французской нации; в нем здесь стали пробуждаться тысячи мыслей, дремавших в нем раньше благодаря полусонной домашней обстановке. Для его ума мадемуазель де Туш была настоящей матерью, которую он мог любить, не совершая преступления. Она была так добра к нему: ведь женщина, которую любит мужчина, всегда кажется ему очаровательной, хотя бы она и не платила ему взаимностью. В данное время Фелиситэ давала ему уроки музыки. Ему казалось, что и эти большие комнаты нижнего этажа, казавшиеся еще больше от соседства с расстилавшимися вокруг лугами и деревьями парка, и эта лестница, заставленная разными произведениями кропотливых итальянских мастеров, со своими резными, деревянными украшениями, с венецианской и флорентийской мозаикой, с барельефами из слоновой кости, мрамора, со всеми редкостями, точно созданными по заказу волшебниц средних веков, – что все это уютное, кокетливое, утонченно-художественное помещение было одухотворено каким-то странным сверхъестественным, неуловимым светом и дышало разлитым здесь особенным воздухом, атмосферой ума. Новый, современный мир со всей своей поэзией составлял резкий контраст со скучным патриархальным миром Геранды. Калист мысленно сопоставил их: с одной стороны, тысячи произведений искусства; с другой – однообразие невежественной Бретани.
Всякому понятно теперь, почему этот бедный ребенок, которому, как и его матери, надоели тонкости игры в мушку, почему он с радостным трепетом входил в этот дом, радостно звонил, радостно шел по двору. Надо заметить, что такой сердечный трепет и разные предчувствия совершенно перестают волновать людей уже сложившихся, закаленных жизненными неудачами, людей, которые ничему уже более не удивляются и ничего не ждут. Отворив дверь, Калист услыхал звуки фортепиано и подумал, что Камиль Мопен в гостиной, но когда он вошел в биллиардную, звуки рояля перестали доноситься до него. Вероятно, Камиль играла на маленьком прямом рояле, который ей привез из Англии Конти и который стоял в гостиной наверху. Поднимаясь по лестнице неслышными шагами, благодаря мягкому ковру, Калист шел все тише и тише. Ему почудилось в этой музыке что-то особенное. Фелиситэ играла сама для себя, беседовала сама с собой. Не желая входить, молодой человек сел на готическую скамью, обитую зеленым бархатом, стоявшую на площадке под окном, артистически украшенным резными работами, лакированным под орех. Импровизация Камиль дышала какой-то таинственной меланхолией: точно будто из глубины могилы чья-нибудь душа взывала к Богу с песнью Dе profundis. Молодой влюбленный услыхал в этих звуках мольбу безнадежной любви, нежную, покорную жалобу и стенания сдерживаемого горя. Камиль разработала, изменила и варьировала вступление к каватине «Сжалься над собой, сжалься надо мной», которая проходит почти во всем четвертом акте «Роберта-Дьявола». Она вдруг запела это место с выражением глубокого отчаяния – и сразу замолкла. Калист вошел и понял причину внезапно наступившего молчания. Бедная Камиль Мопен, красавица Фелиситэ, без всякого кокетства показала Калисту свое мокрое от слез лицо, взяла платок, отерла слезы и сказала совершенно простым тоном:
– Здравствуйте!
Она была очаровательна в утреннем туалете. На голове у нее была надета сеточка из красного бархата, бывшая тогда в большой моде; из-под нее выбивались блестящие пряди ее черных волос. Короткий сюртук несколько походил на греческую тунику и из-под него виднелись батистовые панталоны с вышитой оборкой на конце; на ногах были прелестные турецкие туфли, красные с золотом.
– Что с вами? – спросил Калист.
– Он не возвратился еще, – сказала она, став у окна и устремив взгляд на пески, болота и морской рукав.
Эти слова объясняли ее туалет. Камиль, по-видимому, ждала Клода Виньона и беспокоилась, что его нет, точно женщина, видящая, что старания ее пропали даром. Калист только заметил, что Камиль страдает.
– Вы беспокоитесь? – спросил он.
– Да, – отвечала она с меланхолией, в которой трудно было разобраться атому ребенку.
Калист быстро поднялся.
– Куда вы?
– За ним, – отвечал он.
– Дорогое дитя мое! – сказала она, взяв его за руку, и, удерживая ее в своей руке, она подарила его влажным взглядом, лучшей наградой для юного сердца. – Вы с ума сошли? Где вы его найдете на этом берегу?
– Я найду его.
– Ваша мать будет страшно беспокоиться. Оставайтесь, ну же, я хочу, чтобы вы остались, – сказала она, усаживая его на диван. – Не проникайтесь таким сожалением ко мне. Эти слезы нравятся нам, женщинам. Мы имеем особенную способность, которой нет у мужчин, способность отдаваться нашей нервности и всячески раздувать наши чувства. Воображая себе разные случайности и рисуя их себе, мы часто доводим себя до слез, а иногда и до более серьезных последствий, до ненормальности. Для нас фантазия игра не ума, а сердца. Вы пришли очень кстати, мне вредно оставаться в одиночестве. Я не поддалась на ловушку, расставленную им под предлогом посещения Круазига, Батца и соляных болот. Я знала, что он употребит на это не один день, а несколько. Ему хотелось нас оставить вдвоем: он ревнует, или, скорее, играет в ревность. Вы молоды, красивы.
– Так что же вы мне не говорили этого? Мне не надо больше бывать у вас? – спросил Калист, не в силах сдержать слез, которые растрогали Фелиситэ.
– Вы ангел! – воскликнула она.
Затем она весело запела «Останься» Матильды из «Вильгельма Теля», чтобы отнять от ответа принцессы ее подданному всякий оттенок серьезности.
– Он хотел таким поведением, – продолжала она, – заставить меня поверить, что он чувствует ко мне более сильное чувство, чем оно есть в действительности. Он знает, что я ему желаю только добра, – сказала она, – пристально смотря на Калиста. – Но его гордость страдает от сознания, что в этом отношении он уступает мне. А может быть, у него зародились подозрения на ваш счет и он хочет нас застать врасплох.
Но если бы даже вся вина его была в том, что он пожелал насладиться прелестью этой прогулки без меня, что он не принял меня себе в спутники в этой экскурсии, не разделял со мной мыслей, которые зародились у него при виде этих красот, что он заставляет меня смертельно беспокоиться, – разве всего этого мало? Меня так же мало любит этот мыслитель, как и музыкант, как и великий остроумец, как и офицер. Стерн прав: имена имеют свое значение, а мое – это грубая насмешка. Я умру, не найдя ни в одном мужчине ответа на любовь, которой полно мое сердце, на ту поэзию, которой дышит моя душа.
Она замолкла, бессильно опустив руки, голова ее откинулась на подушку, глаза сделались бессмысленными; погрузившись в задумчивость, она пристально смотрела на цветок ковра. Горе великих людей имеет в себе что-то грандиозное, внушающее уважение: перед зрителем точно открываются тайники их души, великой и безгранично могучей. Горе великих людей похоже на горе царственных особ, которое отражается в сердцах всех и заставляет страдать целый народ.
– Зачем вы меня?… – сказал Калист и не докончил.
Красивая горячая рука Камиль Мопен коснулась его руки и прервала его.
– Природа изменила для меня свои законы и дала мне еще пять, шесть лет молодости. Я отвергла вас из эгоизма. Рано ли, поздно ли, разница в возрасте принудила бы нас расстаться. Мне и так на тринадцать лет больше, чем ему: и этого довольно.
– Вы и в шестьдесят лет будете прекрасны! – геройски воскликнул Калист.
– Дай Бог! – с улыбкой отвечала она, – к тому же, дорогое дитя мое, я хочу любить его. Несмотря на его холодность, на отсутствие всякой творческой фантазии, на его трусливую беззаботность и зависть, мучащую его, я убеждена, что под этими лохмотьями скрывается величие духа, я надеюсь, что смогу наэлектризовать его, спасти его от самого себя и привязать ко мне. Увы! У меня здравый ум, но слепое сердце.
Она до ужаса ясно видела свой внутренний мир. Она страдала и анализировала свое страдание, вроде того, как Кювье и Дюпюнтрен объясняли своим друзьям роковой ход своих болезней и постепенное приближение смерти. Камиль Мопен так же хорошо знала чувство любви, как двое ученых – анатомию.
– Я приехала сюда, чтобы хорошенько изучить его: он уже стал скучать. Ему не хватает Парижа, я говорила ему это: у него болезненная потребность критиковать кого-нибудь; а тут нельзя ни отделать автора, ни осудить какую-нибудь систему, ни повергнуть в отчаянье поэта; к тому же здесь он не смеет предаться разгулу, который освободил бы его от тяжелого наплыва мыслей. Увы! Может быть, и моя любовь к нему недостаточно искренна, чтобы заставить его отрешиться от умственной жизни. Я недостаточно заставляю его терять голову! Напейтесь оба с ним сегодня вечером, а я скажусь больной и не выйду из своей комнаты: тогда я и узнаю, права я, или нет.
Калист покраснел, как вишня, от подбородка до волос, даже уши его загорелись.
– Боже мой! – воскликнула она, – ведь я нисколько не подумала о том, что развращаю тебя, ведь ты невинен, как молодая девушка. Прости меня, Калист! Когда ты полюбишь, то узнаешь, что можно даже взяться зажечь Сену, только бы доставить хотя небольшое удовольствие своему предмету, как любят выражаться ворожеи на картах.
Она на минуту замолчала.
– Бывают на свете люди с гордым и строго последовательным характером, которые в известном возрасте говорят: «Если бы мне пришлось начать жизнь сызнова, то я поступил бы точно так же!» А я хотя и не считаю себя малодушной, говорю: «Я хотела бы быть такой женщиной, как ваша мать, Калист!» Иметь такого Калиста, какое это счастье! Будь мой муж величайшим глупцом, я все-таки была бы ему покорной и смиренной женой. А между тем я не знаю за собой никакой вины по отношению к обществу: в жизни я вредила только сама себе. Увы! дорогое дитя мое, женщина не может прожить одна в обществе.
«Привязанности, которые не находятся в полной гармонии с социальными и естественными законами, привязанности необязательные – не прочны. Страдать, чтобы страдать – нет, лучше хоть кому-нибудь быть полезной. Что мне за дело до моих кузин Фокомб, которые уже перестали быть Фокомбами, которых я не видела в течение двадцати лет и которые вдобавок вышли замуж за негоциантов! Вы для меня сын, не доставивший мне неприятных обязанностей материнства, я оставлю вам свое состояние, и вы будете счастливы, по крайней мере, в этом отношении благодаря мне, вы, дорогое воплощение красоты и прелести, которого не должна коснуться никакая перемена, никакая порча.
Сказав это прочувствованным тоном, она опустила свои длинные ресницы, чтобы он не мог ничего прочесть в ее глазах.
– Вы ничего не захотели от меня, – сказал Калист, – и я отдам ваше состояние вашим наследникам.
– Дитя! – сказала Камиль низким голосом и по щекам ее потекли слезы. – Неужели ничто не спасет меня от меня самой!
– Вы хотели мне рассказать одну историю и письмо… – сказал великодушный юноша, желая отвлечь ее от охватившей ее грусти.
Но он не докончил, она прервала его речь.
– Вы правы, прежде всего, надо быть честной женщиной. Вчера уже было слишком поздно, ну, а сегодня, по-видимому, много есть свободного времени впереди, – с горькой иронией заметила она. – Чтобы исполнить мое обещание, я сяду таким образом, чтобы видеть далеко вдаль по берегу.
Калист повернул ей большое готическое кресло и открыл окно. Камиль Мопен, разделявшая восточные вкусы знаменитой писательницы, взяла великолепный персидский кальян, подаренный ей посланником. Она положила пачули в жаровню, вычистила мундштук, надушила перышко, которое она употребляла только один раз, подожгла желтые листья, поставила сосуд с длинным, покрытым синей эмалью и золотом, горлышком, составлявший главную часть этого красивого, созданного для наслаждения изобретения и, позвонив, велела подать чаю.
– Может быть, вы выкурите папиросу? Ах! Я все забываю, что вы не курите. Ведь так можно редко встречать такого чистого юношу! Чтобы коснуться атласного пушка, покрывающего ваши щеки, по-моему, нужно руку Евы, только что вышедшей из рук Бога.
Калист покраснел и сел на табурет, не заметив глубокого смущения, от которого Камиль вся покраснела.
– Особа, от которой я получила вчера это письмо, и которая, может быть, завтра приедет, маркиза де Рошефильд, – начала Фелиситэ. – Выдав свою старшую дочь за знатного португальского вельможу, навсегда поселившегося во Франции, старый Рошефильд, который уступает вам в древности рода, пожелал через сына породниться со старинным дворянством, чтобы доставить сыну пэрство, которое не удалось ему получить самому. Графиня де Монткорне указала ему в департаменте Орна на мадемуазель Беатрису-Максимилиенну-Розу де Кастеран, младшую дочь маркиза де Кастеран, который не хотел давать приданого за своими двумя дочерьми, чтобы оставить все состояние своему сыну, графу де Кастеран. Кастераны, по-видимому, доводят свою родословную до Адама. Беатрисе, которая родилась и выросла в замке Кастеранов, было тогда – брак этот состоялся в 1828 году – лет двадцать. Она отличалась тем свойством, которое вы, провинциалы, называете оригинальностью, но которое только доказывает возвышенность воззрений, некоторую восторженность, любовь ко всему изящному и художественному. Поверьте опытности женщины, которая сама была на этом скользком пути – для женщины нет ничего опаснее таких вкусов: удовлетворяя им, можно дойти до того состояния, в каком нахожусь теперь я и до чего дошла маркиза… до падения в пропасть. Одни мужчины всегда имеют при себе палку, с помощью которой они удерживаются на краю пропасти, у них есть сила, которой у нас нет, и которая делает из нас чудовищ, если она у нас только есть. Старая бабушка ее, вдовствующая де Кастеран, была очень довольна, что она вышла за человека, которого она превосходила по благородству и по своим воззрениям. Рошефильды повели себя прекрасно по отношению к ней, и Беатриса могла только хвалить их. Точно так же и Рошефильды были вполне довольны Кастеранами, так как те, благодаря своему родству с Вернелями, с д’Эгриньонами и Труавилями, доставили пэрство своему зятю во время щедрой раздачи пэрства Карлом X, которая была признана недействительной во время июльской революции. Рошефильд довольно глуп, но, тем не менее, он начал с того, что заполучил себе сына и так как он слишком скоро успел надоесть своей жене, то она скоро отдалилась от него. Первые дни брачной жизни часто составляют камень преткновения, как для неумных людей, так и сильной любви. Будучи очень недалек, Рошефильд неопытность жены в сердечных делах принял за холодность и поставил Беатрису в разряд лимфатических и холодных. Она блондинка – на этом основании он счел себя вполне в безопасности и стал вести холостую жизнь, вполне полагаясь на воображаемую холодность маркизы, на ее гордость и на открытую жизнь, которая создает тысячу преград для парижанки. Вы поймете, о чем я говорю, когда побываете в этом городе. Те, кто хотел извлечь выгоду из его беззаботного спокойствия, говорили ему: Как вы счастливы, у вас такая холодная жена, что она неспособна влюбиться, она вполне довольствуется тем, что блистает в свете, все ее прихоти чисто артистические, все ее желания и ревность удовлетворены будут, если она себе создаст салон, где будут собираться остроумные люди, она готова устроить шабаш музыки, целую оргию литературы». А муж был в восторге от этих шуточек, которыми в Париже одурачивают глупцов.
Впрочем, Рошефильд не совсем обыкновенный глупец: у него тщеславия и гордости столько же, сколько у умного человека, с тою только разницей, что умные люди надевают на себя личину скромности и обращаются в кошек, которые ласкаются к вам, чтобы и вы их приласкали; а самолюбие Рошефильда очень откровенно и грубо, и очень любит восторгаться сам собой. Тщеславие его было низменного свойства и, помести его в конюшню, он и тут нашел бы пищу для самохвальства. Бывают у людей такие недостатки, о которых знают только близкие люди и которые появляются только в скрытой от всех интимной жизни; в свете же, по отзыву общества, такие люди слывут за приятных людей. Рошефильд по всем данным должен был стать нестерпимым, едва только в нем явилось бы подозрение, что его семейному очагу грозит опасность: его ревность мелочна и труслива; будучи застигнут врасплох, он способен стать зверем; он будет трусливо таить свою ревность в течение шести месяцев и совершит убийство на седьмой месяц. Он думал, что очень ловко обманывает жену, и вместе с тем боялся ее: два повода к деспотизму, раз он заметить, что маркиза из милости делает вид, что совершенно равнодушно смотрит на его неверность. Я нарочно разбираю его характер, чтобы объяснить вам поведение Беатрисы. Маркиза искренно восхищалась мной; но от восхищения до зависти – один шаг. Моя гостиная считается одной из самых интересных в Париже: ей захотелось устроить у себя такой же салон, и она всячески переманивала от меня моих знакомых. Я никогда не умею удерживать тех, кто имеет намерение отойти от меня. У нее стали собираться разные поверхностные люди, которые от скуки сходятся со всеми; входя в гостиную, они уже думают, как бы уйти; но кружка ей не удалось создать. В этот период она, по-моему, жаждала стать известной. Она всегда отличалась величием души, царственной горделивостью; в ее уме постоянно зарождались новые мысли; она удивительно легко схватывала и понимала всевозможные сведения: сейчас она будет говорить с вами о метафизике и музыке, сейчас о богословии и живописи. Вы увидите ее теперь вполне сложившейся женщиной, но в ней произошло мало перемены с тех пор, как мы ее видели молодой новобрачной. В ней заметна некоторая аффектация: она слишком старается показать, что знает разные трудные вещи – китайский и еврейский языки, что она имеет понятие об иероглифах и может прочесть содержание папирусов, которыми обернуты мумии. Беатриса – светлая блондинка, перед которой покажется негритянкой светлокудрая Ева. Она очень тонка и пряма, как свечка, бела, как хлеб для причастия; овал ее лица довольно длинный и острый; цвет лица очень изменчив: сегодня она бела, как полотно, а завтра лицо ее вдруг делается смуглым и все точно покрывается подкожными точечками, как будто в одну ночь кровеносные шарики покрылись пылью; у нее чудный, но несколько вызывающий лоб; зрачки глаз бледно-зеленые, глазное яблоко совершенно белого цвета; брови мало заметны; веки точно отяжелели. Под глазами часто бывают круги. Нос ее, изогнутый, с узкими ноздрями, говорит об ее хитрости и придает ей суровое выражение. Рог у нее австрийский, верхняя губа толще нижней, которую она часто презрительно отставляет. Она всегда бледна и делается розовой только от сильного волнения. Подбородок ее довольно толст; мой также не тонок и, может быть, мне не следовало бы поэтому говорить вам, что женщины с жирным подбородком очень требовательны в любви. Я редко встречала такую красивую талию, как у нее; спина ее ослепительно бела; прежде она была слишком плоска, а теперь, говорят, она округлилась, пополнела, но бюст и руки остались худощавы, не пополнели, как плечи. Вообще у нее такая фигура и такие непринужденные манеры, что они заставляют забыть об ее недостатках и рельефно выдвигают ее красоту. Природа наделила ее той царственной осанкой, которую приобрести нельзя и которая так идет ей, выставляя на вид благородство ее происхождения; все в ней гармонично, и несколько худые, но красивой формы бедра, и чудная ножка, и роскошные, ангельские, точно залитые сиянием, волосы, которые особенно любил рисовать Жироде. Не будучи безупречной красавицей, она, если захочет, может произвести сильное, неизгладимое впечатление. Ей стоит только одеться в бархат вишневого цвета, с кружевами, вколоть в голову красные розы, и она становится божественно красивой. Если бы каким-нибудь чудом она могла бы одеться в костюм тех времен, когда женщины носили лифы с массой лент, кончающиеся узким мысом и переходящие в широкие, торчащие складки парчовых юбок; когда женщины окутывались в сложенные крупными складками фрезы, прятали руки в рукава с прорезами и кружевными буфами, так что видны были только концы пальцев, точно пестик в чашечке цветка; когда они сверх завитых в букли волос надевали перевитый драгоценными каменьями шиньон – вот тогда Беатриса могла бы с успехом соперничать с такими идеальными красавицами, каких вы здесь видите.
Фелиситэ указала Калисту на прекрасную копию с картины Миериса, где изображена женщина в белом атласном платье, которая стояла с нотами в руках и пела брабантскому знатному вельможе; негр наливает в стакан на ножке старое испанское вино, а старая экономка укладывает печенье.
– Блондинки, – продолжала она, – имеют над нами, брюнетками, то преимущество, что они более разнообразны: есть блондинки ста разных оттенков, а брюнетки все похожи друг на друга. Блондинки женственнее нас; мы, француженки-брюнетки, больше похожи на мужчин. Неужели, – сказала она, – вы не влюбитесь в Беатрису после нарисованного мною портрета, как это сделал какой-то принц в «Тысяче одном дне»? Но и тут ты опять опоздал, бедное дитя мое. Но утешься. Ведь всегда первому достаются кости!