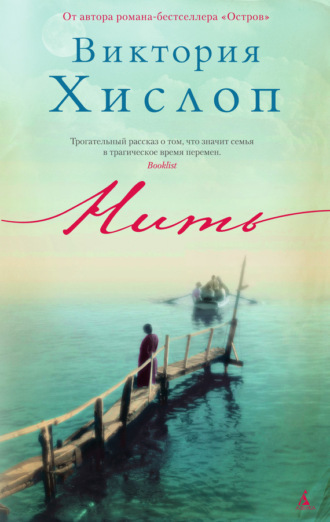
Полная версия
Нить
Возница вез ее в город, объезжая сильнее всего пострадавшие улицы, и все же масштаб разрушений был очевиден. Через месяц после пожара, уничтожившего почти весь город, запах пепелища, который невозможно было спутать ни с каким другим, по-прежнему висел в воздухе.
Ольга успела мельком увидеть призрачные остовы величественных городских зданий, их пустые окна, слепо глядящие на море, а потом и останки виллы Комниносов.
Они с ребенком прибыли на улицу Ирини около полудня. Была уже середина сентября, но солнце палило, как в августе.
Выйдя из экипажа в конце узкой улочки, Ольга увидела, что Павлина разговаривает с какой-то женщиной, и узнала ее. Это была Роза Морено, ее соседка.
Роза была вне себя от радости, увидев Ольгу, и тут же наклонилась поближе, чтобы рассмотреть младенца.
– Милая моя, я так счастлива тебя видеть – и поздравляю! – сказала она. – И выбрал же твой малыш время, когда родиться! Но зато какая радость, что ты опять будешь жить здесь.
– Спасибо, Роза. Я тоже рада.
Почти механически, в знак доверия и приязни, она протянула дитя Розе, и та прижала его к себе, с наслаждением вдыхая сладкий младенческий запах. У нее самой двое сыновей были еще маленькие, но ведь особый запах новорожденного держится недолго.
Они не виделись больше двух лет, но быстро обменялись любезностями и новостями о главных событиях в своей жизни.
– Улица наша мало изменилась, сама увидишь, – сказала Роза. – Нам повезло, что огонь сюда не дошел. Синагога наша сгорела, но, по правде говоря, уж лучше синагога, чем дом. Ты только не говори никому, что я так сказала.
– А мастерская? – спросила Ольга, когда Роза отдала ей младенца.
– Сильно пострадала, но это дело поправимое!
Морено, еврейская семья, жившая в доме номер семь, владела одной из самых популярных швейных мастерских в городе и тоже покупала ткани у Константиноса Комниноса. Муж Розы, Саул, унаследовал мастерскую от своего отца и собирался в будущем передать ее своим сыновьям Элиасу и Исааку. Одному из них исполнился только год, а другому четыре, однако все уже было решено.
Через несколько часов после пожара Саул начал делать новые выкройки взамен сгоревших и сметал швы у нескольких костюмов. Многие люди остались в чем были, так что Саул предвидел ажиотажный спрос и был достаточно практичен, чтобы воспользоваться ситуацией. Один купец из Верии продал ему в кредит на полгода несколько рулонов недорогой шерсти, и он тут же приступил к работе, обошел нескольких клиентов, чтобы снять мерки.
– Думаю, мы тут устроимся как-нибудь, правда, кирия Ольга? – сказала Павлина, когда они переступили порог.
– Да, пожалуй, устроимся, – ответила Ольга. – Я здесь чувствую себя как дома…
Те немногие пожитки, что остались у них, в основном одеяла, простыни, пеленки и другие детские вещи, внесли в дом. Кирия Морено принесла подходящий по размеру ящик для фруктов, который мог сойти вместо колыбели. Она выстлала его изнутри мягким, постелила вышитые простынки и одеяльце с именем Димитрия.
В доме номер пять, между Ольгой и Морено, жила мусульманская семья Экрем с тремя дочерьми. Госпожа Экрем как-то зашла после обеда с подарками для малыша и сладостями для Ольги. Она была очень добрая женщина, правда, объяснялась с соседями по большей части улыбками и жестами, потому что греческого почти не знала.
Ольга была рада вернуться в теплую, знакомую атмосферу дома, где она выросла, улицы, полной дорогих воспоминаний. Все, кого она знала с детства, по-прежнему жили в тех же домах и были рады снова ее увидеть. Они скоро простили ей то, что после замужества она была здесь такой редкой гостьей.
Тепло и близость радовали в эти дни Ольгу, но не Константиноса. Столь тесное соседство с другими людьми, то, что их слышно за стеной и даже с улицы, казалось ему невыносимым. В большей части домов теперь, после пожара, жило по несколько семей. За городом организовали лагеря беженцев для тех, кто остался совсем без крова, но когда у брата или кузена есть крыша над головой, естественно ожидать, что он разделит с тобой свою удачу. Вот так и вышло, что в некоторых домах по улице Ирини, с ветхими полами, с подвалами, отведенными для скотины, ютилось до пятнадцати человек сразу, со всеми вытекающими последствиями вроде шума и беспорядка.
Константинос открыто выказывал недовольство, и хотя Ольга всегда исполняла свой, пожалуй, самый главный свадебный обет, а именно: никогда и ни в чем не перечить мужу, наступил момент, когда у нее все же вырвалось неосторожное слово.
– У меня здесь клаустрофобия начинается, – пожаловался Константинос после беспокойной ночи.
– Я понимаю, это не вилла у моря, но мне нравится.
– Ты выросла на этой улице, Ольга, – возразил муж. – Тебе это привычно!
– Да ведь нам еще гораздо легче, чем другим, – тихо сказала она.
Ольга слышала рассказы о лагерях беженцев, которые разбили за городом для десятков тысяч людей, оставшихся без крова после пожара. Хотя они были по большей части хорошо организованы добросердечными иностранцами, однако все необходимое выдавалось строго по норме, и с наступлением зимы их обитателям будет нелегко. Единственный выход, кроме этого, остававшийся семидесяти тысячам бездомных (если родственники не могли их принять), – бесплатный поезд до Ларисы или корабль до Волоса, где строились новые дома. Большинство оставшихся на улице были евреями, и тысячи из них вынуждены были уехать.
Но как ни велики были потери этих людей, Константинос считал, что он потерял больше. Относительные цифры его не интересовали. Он был одним из самых богатых людей в городе, значит и его личное благосостояние пошатнулось сильнее, чем у других. Страховая компания прислала письмо с уведомлением, что при таком количестве прошений о выплатах они не в состоянии предложить ему полную компенсацию, как он ожидал.
– Мне бы не хотелось выслушивать поучения от собственной жены, – отрезал Комнинос. – Ты ведь ничего дурного не видишь в такой жизни, как на этой улице, правда?
– А ты видишь одни недостатки. Так почему бы тебе тогда не найти какое-нибудь другое место?
Ольга не видела, как рука взлетела к ее щеке. Только почувствовала один-единственный хлесткий удар.
Павлина вернулась с прогулки с малышом и обомлела, увидев, что Ольга рыдает на кровати. Когда хозяйка наконец подняла голову от подушки, чтобы объяснить, что случилось, Павлина с изумлением и ужасом увидела на ее щеке красное пятно.
– Какой позор, – сказала Павлина. – Его отец никогда бы такого не сделал. И брат тоже.
– И я же его не поучала, Павлина. Просто высказала свое мнение.
– А он что, ушел?
– Да, и сказал, что больше здесь жить не будет.
Малыша пора было кормить, и разговор прервался, но Ольга понимала: их отношения с мужем уже никогда не будут прежними.
Оправившись от первоначального потрясения после пощечины, Ольга призналась себе и Павлине, что отсутствие в их маленьком доме грозного мужа стало громадным облегчением. Он прислал записку, что вернулся в тот же отель, где жил после пожара. Оттуда было ближе к его стройкам, и это был достаточно благовидный предлог для тех обитателей улицы Ирини, которые могли полюбопытствовать, почему ушел кириос Комнинос.
Все шло спокойно, пока через несколько дней Димитрий не стал плакать гораздо больше обычного, и даже Павлина, гордившаяся своим умением обращаться с младенцами, ничего не могла поделать. Для человека, появившегося на свет меньше месяца назад, этот малыш отличался на редкость громким и пронзительным голосом.
Ольга с Павлиной по очереди носили его на руках, часами укачивали, но ничто не помогало, он все плакал и плакал и не успокаивался, сколько ни прикладывай его к груди.
Однажды утром неожиданно явился Константинос.
– Ребенка на улице слышно! – рявкнул он, отчасти от злости, отчасти чтобы перекрыть рев младенца. – Он болен, должно быть! Почему за доктором не послали?
– Маленькие часто так кричат, горло пробуют, – стала оправдываться Павлина, заметив, что Ольга слегка вздрогнула от гневного окрика мужа.
Константинос повернулся к ней.
– Скажу доктору Пападакису, чтобы зашел после обеда, – резко сказал он. – Я знаю, Павлина, у тебя имеется некоторый опыт, и все же, думаю, стоит узнать мнение специалиста.
После этого, не считая редких визитов, Константинос устранился. Денег давал достаточно, чтобы прокормиться, но обедать с ними не оставался. Ему было не по себе на этой улице, где скотины было больше, чем людей, и где он сам чувствовал себя как свинья в тесном загоне.
Вскоре на улицу Ирини наведался доктор Пападакис. До сих пор он в этой части города никогда не бывал и, как и Константинос Комнинос, даже не пытался скрыть отвращение. Во время своего краткого визита он сохранял на лице такое выражение, словно забрел сюда случайно, по пути.
Доктор осмотрел мать и младенца и немедленно объявил, что беда в материнском молоке. Его не хватало. Димитрию придется найти кормилицу.
Ольга выслушала этот диагноз не без огорчения. Ее так радовало ощущение близости, когда она кормила ребенка. Но она сделает все так, как лучше для него.
Прелесть жизни на такой многолюдной улице в том, что всегда найдется кому прийти на помощь – подметку ли прибить, крысу ли поймать, записку ли отнести на другой конец города. Решение задачи, кто же будет кормить Димитрия, оказалось прямо под рукой.
– Я Элиаса уже почти не кормлю, – сказала Роза, – а молока у меня сколько угодно. Хочешь, я возьмусь?
Это казалось самым естественным выходом.
И не прошло и дня, как Димитрий сосал уже другую грудь. Живот у него опять был полон, и он снова стал расти и крепнуть под постоянным улыбчивым, обожающим материнским взглядом. Мужу Ольга не стала говорить, кого взяла в кормилицы, – знала, что он не одобрит.
Даже на этой улице, которая богачу показалась бы просто нищей, существовало крепко сплоченное сообщество. Жизнь бок о бок сделала людей не менее, а даже более терпимыми друг к другу.
Все дети играли вместе – христианские, мусульманские, еврейские, и когда они затевали салки возле местной церкви, или среди развалин синагоги, или у одного из множества минаретов, которые все еще возвышались над городом, никто и не вспоминал, что это святое место. Тем более не важно было им, кто к какой религии принадлежит.
Они понимали, что чем-то отличаются друг от друга. «А почему ты, Исаак, говоришь не так, как мы? – поддразнивал, бывало, кто-нибудь из мальчиков-христиан. – И почему по субботам играть не выходишь?» Маленьких мусульман тоже дразнили. «А я слышал, как мой отец говорил, что твой дядя вчера напился!» – «Ну и что? Мама говорит, если он не сам ракию покупал, так это ничего не значит!» Вот так и жили люди на улице Ирини: мирясь с особенностями друг друга и привычно закрывая на что-то глаза.
В ноябре в городе состоялся судебный процесс, за которым все следили с большим интересом. Супружескую пару, жителей той части города, где предположительно возник пожар, обвинили в поджоге. Константинос, который теперь заходил на улицу Ирини проведать жену реже чем раз в неделю, появился там как раз в тот день, когда огласили вердикт, и яростно настаивал на том, что поджог был преднамеренным.
Подсудимых оправдали, но по складу своего характера Константинос был неспособен поверить, чтобы такая катастрофа могла быть случайностью, – нужно же было на кого-то излить свой гнев после таких потерь.
– Выходит, нас хотят убедить, что гибель нашего города – просто несчастный случай?! – воскликнул он и ударил кулаком по столу.
Вопрос был риторическим. Ольга в эти дни не решалась ни в чем возражать мужу, хотя про себя считала: уже то, что эта пара потеряла во время пожара все свое имущество, говорит в пользу их невиновности.
В это утро Комнинос едва замечал жену и ребенка. Сидел, уткнувшись в газету. Ольга стояла у плиты, помешивая кофе для мужа, и думала о том, что его гнев доходит до кипения ровно за то же время, за какое поднимается темная жидкость в маленькой турке. Она налила кофе в чашечку, поставила перед ним на стол и отошла.
Оправдание несчастных беженцев было не единственным важным событием этого дня.
Вот уже месяц выходили ежедневные сводки новостей – свидетельство острых противоречий внутри Греции. Как раз перед этим опустошительным пожаром король Константин покинул страну, и его сменил на престоле сын Александр, который, вопреки отцу, поддержал Венизелоса. Очистив армию от роялистов, Венизелос, снова ставший премьер-министром, втянул не слишком прочно объединившуюся Грецию в войну на стороне Антанты. В результате всего этого Леонидас Комнинос отправился сражаться на Македонский фронт, на север страны.
Поставки сукна для армейских мундиров оказались прибыльным бизнесом для Константиноса Комниноса. Каждый день войны приносил ему огромные барыши. Если удастся снова поставить дело на широкую ногу, думал он, миллионы драхм будут у него в кармане. Пусть инфраструктура города разрушена, но он сумеет обернуть ситуацию себе на пользу.
Ольга наблюдала за мужем – за тем, как он быстро листает страницы газеты, почти не обращая внимания на другие новости дня. Он не собирался долго задерживаться над военными сводками, пусть даже его родной брат ведет в атаку солдат где-то на передовой. Единственное, что занимало его сейчас, – поскорее бы вернуться на склад, где в этот день возводили леса.
Комнинос одним глотком выпил кофе, встал, чмокнул Ольгу в щеку, потрепал по головке малыша. Димитрий лежал на груди матери и крепко спал, ничего не зная о мировых бедствиях. Роза Морено только что ушла, теперь малыш несколько часов не шевельнется. Ничто не нарушало его покой и безмятежность.
– Как тут, все хорошо? Как ребенок спит?
Вопросы вылетали один за другим, и ни один из них не требовал ответа. Константинос торопился, и у Ольги не было ни малейшего желания его удерживать.
– Склад будет готов через несколько месяцев, – сказал он. – Потом нужно будет заняться торговым залом. А там посмотрим, как быть с домом.
И он ушел. Ольга стояла в дверях и смотрела, как щеголеватая фигура мужа быстро удаляется по мощеной улице. Темный, хорошо скроенный костюм и фетровая шляпа резко выделялись среди одежд здешних обитателей. А сильнее всего бросалась в глаза его стремительная походка, почти срывающаяся на бег. Ему не терпелось вырваться отсюда.
Месяц за месяцем счастливо текли на улице Ирини. Жара спала, и теперь все чаще сидели дома, а не на улице. Роза Морено приходила пять раз в день, а после вечернего кормления засиживалась еще на час или дольше и приводила с собой ребятишек.
Бывало, что и Ольга с Павлиной заходили в соседний дом к Морено, а к ним присоединялась кирия Экрем с дочерьми. При свете мерцающей свечки начинались рассказы. К кофе всегда подавался щедрый кусок топишти – медового пирога с грецкими орехами, который Роза пекла по традиционному еврейскому рецепту. Держа на коленях Элиаса, она вспоминала истории о том, как ее предки попали в Грецию более четырех веков назад, и рассказывала так, будто они только сегодня сошли на берег.
– Нас было двадцать тысяч – тех, кого вышвырнули из Испании, – говорила она со сдержанным негодованием, – зато когда мы прибыли в Салоники, султан только обрадовался. «Вот глупцы эти католические монархи – изгоняют евреев. Турки стали богаче оттого, что они здесь, а испанцы – беднее!» – воскликнул он. – Иногда она вставляла фразы на ладино[3] и тут же переводила. – И жили мы тут припеваючи, даже составляли большинство здешнего населения! Тут стояли десятки синагог, и Салоники стали называть la Madre de Israel[4].
Да, поговорить она любила.
– Мы воссоздали золотой век тут, в Салониках, как когда-то в Испании, и встретили здесь все привычные религии вперемешку: ислам, христианство, иудаизм. И жили счастливо все вместе, каждый в своей вере. Даже климат тут оказался такой же, и фрукты такие же – гранаты! – восклицала она улыбаясь.
Мать Саула, что жила вместе с сыном и невесткой, не знала ни слова по-гречески, говорила только на ладино. Она все время сидела в углу, одетая в традиционную одежду сефардских евреев – белую блузку, расшитую жемчугом, длинную юбку, фартук, плотный атласный жакет, отделанный мехом, и шаль, тоже расшитую жемчугом. Иногда она рассказывала сказки, а невестка переводила их на греческий.
Девочек Экрем завораживали ее сказки о далеком городе под названием Гранада, где было когда-то столько мечетей, и замков с башнями, и надписей арабской вязью на стенах. Они жевали кусочки сладкого пирога с орехами и воображали себе это сказочное место – невероятно красивое и экзотическое, куда они, может быть, когда-нибудь поедут вместе. Госпожа Экрем часто читала что-нибудь из своей многотомной «Тысячи и одной ночи», и в сонном полусвете мать рисовалась девочкам Шахерезадой, рассказывающей свои чудесные сказки о судьбе и предначертанном ей жребии. Она читала по-турецки, а старшая дочь переводила каждую фразу на греческий.
Когда они сидели все вместе в маленькой комнатке у Морено, в воздухе ощущалась причудливая смесь разнообразных ароматов трав и специй, которыми приправляли еду, церковного ладана, свечного воска, сладких булочек, дурманящего запаха кальяна, а еще грязных детских пеленок и срыгнутого молока. Когда домой приходил Саул Морено, от него кисло пахло потом. Он работал без устали, чтобы успеть выполнить все новые и новые заказы на армейские мундиры.
Димитрий привык к тому, что его передают с рук на руки и качают то на одном колене, то на другом, привык слышать самые разные выговоры и видеть над собой разные лица. Он вдыхал десятки разных запахов и любил, когда его тискали разные люди из разных семейств. В первые несколько месяцев своей жизни он видел вокруг одни улыбки. И все время улыбался в ответ.
– Митси, Митси, Митси мой! Митси, Митси, Митси мой, – распевали дети, играя с ним в прятки.
Все эти месяцы Константинос по-прежнему вел реконструкцию своего большого склада у дока, расширил его, прихватив территорию, которую раньше занимало соседнее здание, сгоревшее дотла. Равнодушные формальные визиты на улицу Ирини тоже продолжались, но он никак не мог скрыть своего отвращения к самим ее обитателям и к тому, в каком количестве они ютились в домишках размером не больше его гардероба.
Леонидас же, приехав в родной город на побывку, не обнаружил в себе такой неприязни к улице Ирини и, кажется, даже предпочитал ее городскому центру, где располагалась его собственная убогая квартирка. Павлина всегда встречала его горячей едой, Ольга – улыбкой, а Димитрий – неприкрытым восторгом. Мальчик обожал дядю, который мог целыми часами петь ему песенки или показывать фокусы, доставая неведомо откуда ириски и монетки. Стоило дяде Леонидасу появиться, тут же раздавались радостные крики и смех.
План полной реконструкции города был составлен французским архитектором Эрнестом Эбраром. Предполагалось, что на месте узких улиц проложат бульвары и построят роскошные здания. Это гораздо больше соответствовало тем перспективам, к которым стремились коммерсанты вроде Константиноса Комниноса, и он тоже радовался преображению города, однако местные мусульмане и евреи не разделяли его восторгов. Семья Морено с тревогой услышала, что извилистые улочки к югу от улицы Эгнатия, где жили в основном евреи, в прежнем виде восстанавливать не будут, и бóльшую часть общины вытеснят на окраины. То же касалось тех районов города, где обитали мусульмане. Их тоже изгоняли из центра.
По счастливой случайности уцелевший во время пожара квартал, где находилась улица Ирини, не попал в зону перепланировки. Пускай там было тесно, но гармоничный уклад жизни полюбился ее обитателям, и никто из них не хотел перемен.
Константинос закончил перестройку склада, и еще года не прошло после пожара, как склад заработал вновь, принося ту же ежемесячную прибыль, что и раньше, – и даже более того. Теперь можно было приступать к строительству торгового зала.
В ноябре 1918 года война, в которую были втянуты народы со всех концов земного шара, закончилась. Греческие войска, сражавшиеся на Македонском фронте, помогли сломить сопротивление немцев и болгар, затем последовало полное поражение Германии. После того как был подписан мирный договор и победители начали кромсать поверженную Османскую империю, Элефтериос Венизелос надеялся, что за греками признают право на контрибуцию. Много лет он пестовал грандиозную мечту: вернуть огромные территории Малой Азии, захваченные турками, и восстановить Византийскую империю. В это время более миллиона греков жило в различных областях Малой Азии, многие из них – в Константинополе. Главной мечтой Венизелоса было отвоевать этот город, отнятый у Греции в 1453 году.
Согласно условиям договора Венизелос надеялся получить контроль над Константинополем и Смирной, городом на западном побережье полуострова. Для многих мусульман в Салониках это было неспокойное время. Союзники только что разгромили их братьев-мусульман в Турции, и они втайне желали победы Османской империи.
Однако еще до того, как мирный договор с Германией был подписан, амбиции Венизелоса бросили греческую армию в новое опасное предприятие. В мае 1919 года, пока старший брат подсчитывал барыши от проданной шерсти и сукна для военной формы, а маленький племянник играл в прятки с приятелями на улице Ирини, Леонидас Комнинос отправился в Малую Азию. При поддержке французских, британских и американских кораблей двадцатитысячное греческое войско оккупировало Смирну, считавшуюся одним из лучших портов в Эгейском море.
Предлогом для вторжения была охрана города от итальянцев, высадившихся у самых его южных границ, но, кроме того, Венизелос заявлял, что должен защитить сотни тысяч проживающих там греков от турок. Пять лет назад почти миллион армян-христиан выселили из их домов и погнали босиком в пустыню на верную смерть. Существовал риск, что греков, населявших эти земли из поколения в поколение, может постигнуть та же участь, и эта мысль укрепляла решимость Леонидаса Комниноса и его солдат.
Оккупация обошлась относительно малой кровью (турецкому командующему приказано было не сопротивляться), однако избежать зверств не удалось, и несколько сотен турок были убиты.
Летом того же года полк Леонидаса предпринял успешное наступление на востоке. Целью его был захват территорий, прилегающих к оккупированной Смирне. По мере того как турецкое национальное движение набирало силу, сопротивление становилось все более отчаянным, но, несмотря на это, греческие войска сумели захватить бóльшую часть западной территории Малой Азии, методично разрушая по пути турецкие деревни и истребляя жителей.
Захват Смирны вызвал в Турции всплеск национализма, и многие турки мечтали о мщении. Они нанесли ответный удар, зверски убив тысячи греков, в том числе живших у Черного моря. Чудовищные зверства были на совести обеих сторон – деревни и города стирались с лица земли.
За все это время Леонидас лишь раз приезжал домой на побывку. Зашел на склад к брату, но большую часть недели провел, сидя в молчании в доме на улице Ирини. Ольга заметила, что он изменился. Казалось, за один год постарел на десять.
Только в одном Леонидас остался прежним. При всей своей усталости он всегда находил время и силы для маленького Димитрия. Однажды, придя в гости, принес ему хулахуп и часами забавлял племянника, снова и снова пытаясь научить его гонять обруч так, чтобы он не падал.
В начале 1921 года полк Леонидаса принял участие в новом наступлении. На этот раз целью была Анкара. Хотя греки и потерпели поражение в двух крупных битвах, им все же удалось захватить некоторые стратегические позиции в центральной части Малой Азии, и к лету казалось, что до окончательной победы не так далеко. Леонидас уже тогда считал ошибкой не воспользоваться плодами победы и не продолжить наступление, однако полку был отдан приказ стоять на месте, и выбора не было – пришлось подчиниться. Как и опасался Леонидас, турки за это время организовали новую линию обороны по ту сторону реки Сакарья, в ста километрах от Анкары.
В конце концов греки двинулись к реке. При численном превосходстве можно было рассчитывать на легкую победу, однако после двадцатиоднодневного кровопролитного сражения с неприятелем, укрепившимся на возвышенности, у греков подошли к концу боеприпасы, и им пришлось отступить, сдав позиции, отвоеванные двумя месяцами ранее.
Хотя это и не было окончательным поражением, боевой дух в войсках был подорван, и среди высших чинов многие, включая Леонидаса, выступали за отход на запад, к Смирне. Другие же не хотели отказываться от мечты о Константинополе, и в результате грекам пришлось остановиться и удерживать свои позиции. Такое патовое положение сохранялось почти целый год.
Тем временем турки были заняты подготовкой своих войск к решающему сражению. Они ни в коей мере не были заинтересованы в примирении с греками. Руководил кампанией человек, родившийся в Салониках, в каких-нибудь нескольких сотнях метров от Леонидаса. Сорокалетний, с голубыми, как лед, глазами, Кемаль Ататюрк возглавил националистическое движение в Малой Азии и, учредив свое правительство в Анкаре, поставил целью любой ценой разбить греков и вытеснить их обратно в Средиземноморье.








