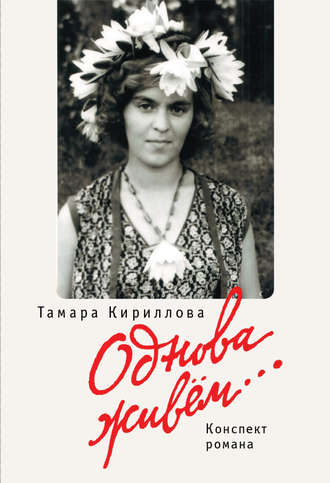
Полная версия
Однова живем…
Мы играли в лапту, в штандр, горелки, прятки. Так незаметно проходил день, а ближе к вечеру я заходила за Стасиком, мы шли домой, и я чистила чугун, а то и два картошки, пахтала масло, когда собиралось достаточно сливок. Мы бежали встречать маму Натаню и маму и, хотя мне уже было восемь лет, я все еще верила, что это кума Лиса присылает нам гостинцы, как верила и тому, что меня нашли в капусте в нижнем огороде, хотя уже прекрасно знала в это время, откуда берутся дети у людей и у животных.
К тому времени, когда картошка была на столе, мы со Стасиком чаще всего уже засыпали, нас с трудом расталкивали, сажали за стол, и мы клевали носом и тыкали вилкой мимо сковородки. Потом мыли ноги и моментально засыпали.
Первого сентября я пошла в школу. В отличие от хрестоматийного утверждения, что человек всегда помнит первую учительницу, я свою не запомнила: ни лица, ни имени. Так как понаехало много эвакуированных, классных комнат в школе не хватало, учителей тоже. Поэтому мы занимались по два класса в одном помещении, при одной учительнице. Первый класс садился справа, третий – слева. Учительница давала задания и работала с одной половиной, потом с другой, и так нас чередовала. В сорок первом году ещё были и тетради, и перья, и чернила, и резинки. Но уже через год с бумагой стало плохо, с другими школьными принадлежностями – тоже. Чернила мы изготовляли из каких-то наростов на дубовых листьях. Писали на газетах, канцелярской бумаге, которую нам давали в правлении колхоза.
В октябре 41 года учеников стало еще больше. В нашу деревню распределили большую партию эвакуированных евреев из Белоруссии. Так как наш дом считался просторным, к нам поселили восемь человек: троих взрослых и пятерых детей. Взрослые были Аня Гитлина, ее мать Сарра, сестра Ани Дора Каменкович. Все дети были Анины, Мишка и Сона уже большие, им было 15 и 16 лет, другие поменьше. Дора Исаковна была учительница, она пошла преподавать в среднюю школу, так называемую ШРМ (школу рабочей молодёжи), которая помещалась в бывшей конторе барина Соколонова. За короткий срок Дору Исаковну полюбила вся деревня. Она излучала доброжелательность, за словом в карман не лезла и была большая хохотушка. Как-то мама Натаня спела частушку про Сталина:
Ах, Йося дорогой,Карие твои очи.Всех крестьян в Сибирь загнал,А евреев – в Сочи.Дора Исаковна залилась хохотом:
– Ну, Наташа, ну, тамбовские, все заметят. А ведь и впрямь в Сочи, ха-ха-ха.
Вся деревня вскоре знала, что в Борисове осталась почему-то сестра Ани и Доры, красавица Фира. К нам приходили смотреть ее фотографии. Фира была снята сидящей на невиданно прекрасном кожаном диване с резной полочкой, на которой были расставлены семь слоников. Через плечо Фиры была перекинута черная толстая коса, у Фиры были красивые черные глаза.
– Ой, что же будет с нашей Фирой, с нашей красавицей, – причитала Аня.
Семейство прожило у нас до лета следующего года. За это время взрослые ни разу не поссорились, хотя маме и маме Натане приходилось со многим мириться. Как мы, тринадцать человек, помещались в кухне и горнице, я себе сейчас не могу представить. Но ведь как-то обходилось. Каждый вечер по всей горнице расстилали солому и сено для ночлега, утром собирали. Мыла не было или почти не было, у нас были вши и в волосах, и в белье.
Дора Исаковна подружилась с нашей местной учительницей Лидией Ивановной Крыловой. Они обе курили и приучили к этому маму:
– Закури, Клава, легче станет.
Мама раз закурила, другой, действительно, стало легче, так и курит до сих пор, хотя отец и пытался с этой привычкой бороться.
Зимой приезжал в отпуск по ранению дядя Боря, отец семейства. Он был в офицерской форме, и у него был какой-то орден. Дядя Боря привёз печальную весть: Фира погибла в концлагере под Минском.
В первый вечер все собрались за общим столом. Мама Натаня нажарила на двух больших сковородках картошку с привезённой дядей Борей колбасой, взрослые пили разведённый спирт, и все мы пили чай с уже почти забытым сахаром.
Мама Натаня пела «Хаз Булат удалой» и частушки. Кое-какие частушки она пела на ухо дяде Боре. Он только крякал, смеялся и спрашивал:
– Наталья Федосеевна, а вы не боитесь?
– Волков бояться – в лес не ходить.
Летом сорок второго года немцы стали подходить всё ближе, Тамбов всё чаще бомбили, днём и ночью над деревней пролетали самолеты, и Гитлины, как и другие евреи, собрались и поехали дальше на восток, к Уралу. В одном из соседних домов жила наша старшая подружка Бэлла. Она почему-то одна осталась в деревне. После того, как мы летом сорок третьего года уехали назад, в Мурманск, её приютила мама Натаня. Она привязалась к Бэлле, как к родной дочери, от неё Бэлла выходила замуж, ей попался на Ржаксе хороший парень, потом они с мужем уехали куда-то к бэллиным родным, и они долго присылали маме Натане письма.
В классе я подружилась с дочерью Лидии Ивановны, Люсей Крыловой. У неё, правда, была отцовская фамилия, очень редкая – Отрюх. Но так их никто не звал, Крыловы и Крыловы. В своё время их раскулачили наполовину, т. е. сломали у них половину их дома и вывезли то, что было в этой половине. Так и стояли их полдома в старом саду, чуточку на отшибе ото всей деревни. Было такое впечатление, что какой-то огромный зверь откусил полдома, а полдома оставил. Как-то незаметно получилось так, что мы с Люсей отделились от остальных деревенских. Наверно, это произошло на почве нашей любви к чтению. У них в доме было много книг, кроме того, прекрасная библиотека была в ШРМ. Как она там сформировалась, не знаю. Старинные книги были из помещичьей библиотеки, а вот кто собирал уже новейшие книги, узнать не пришлось. Родители научили меня читать ещё до школы, но почему-то вначале во мне охоты к чтению не обнаруживалось. То ли не было хороших книг в Росте, то ли ещё почему-то, но чисто детских книг мне читать не пришлось, я сразу начала с Горького, Короленко, Чехова, Достоевского. Обиды и унижения Алёши Пешкова, обречённость детей подземелья, страдания Ваньки Жукова так хлестали меня по сердцу, что я часто плакала над страницами, иногда навзрыд. Мне было жалко и Козетту, и Эсмеральду, и Квазимодо, и Оливера Твиста, я тоже плакала над их обидами но всё-таки такого щемящего чувства, остающегося надолго, не проходящего даже во время беззаботных горелок и пряток, они во мне не вызывали, они были чуточку далековаты от той понятной и близкой жизни, какая открывалась мне на страницах русских писателей.
Соседка напротив, Машутка Буздалина, которая по инвалидности не работала в колхозе, видела, как я часами просиживала летом на крыльце, а зимой у окошка, приходила в ужас от толщины книг и жаловалась маме, говорила, что я ослепну. Мама только улыбалась в ответ на эти жалобы, потому что она сама любила читать, и если за годы эвакуации не прочла ни строчки, то только потому, что деревенская, колхозная жизнь, работа с восхода до заката не позволяла ей делать это. И, пока она она орудовала у печки или делала что-нибудь по дому, я пересказывала ей прочитанное.
Зимними вечерами, когда мама Натаня была посвободнее, она рассказывала нам сказки. Она была вообще великолепным рассказчиком, рассказывала всегда по-разному, с живыми деталями и очень остроумно. Не могу себе простить, что я не записала ни одного её рассказа, когда приезжала в Тамбов на студенческие каникулы и хохотала до слез над её анекдотами из деревенской жизни.
Больше всего мы со Стасиком любили, когда она рассказывала о Золушке и об аленьком цветочке. Обычно мы забирались на печку раньше неё, устраивались поудобнее и не засыпали, хотя мама Натаня иногда задерживалась с хлопотами по хозяйству. И разве это не счастье – слушать в талантливом исполнении сказки, лёжа на тёплой печи?..
Вероятно, мама Натаня была прекрасным стихийным педагогом. Начала и концы её педагогики были любовь и доброта к детям, любовь и доброта ко всему живому. Она ни разу не повысила на нас голос и, если и подчиняла нас своей воле, то делала это весело и по-доброму. Её скуластое скифское лицо с беличьими глазами лучилось приятием жизни даже в самые трудные минуты. После войны она жила с папой Ваней на Дальнем Востоке в звероводческом совхозе. Там она пошла работать уборщицей в детский сад. Но фактически она работала воспитателем и, видно, стольких она обогрела своей любовью, что дети горько плакали, когда она пришла прощаться с ними, плакали и потом: «Где наша няня?» – а заведующая детским садом долго писала ей благодарственные письма.
* * *Мы пережили в деревне две весны, и обе были бурными. Реки разливались, ольховские и поплёвские дети оказывались отрезанными от Ульяновки, где были обе школы, и для нас наступали дополнительные каникулы. Мальчишки изготовляли ходули, давали походить и нам, девчонкам. По улицам с холмов бежали радостные ручьи, на снегу образовывались корочки, и было весело слышать, как хрустели эти корочки под нашими ногами или от удара палками. Солнце искрилось не только в небе, но и на снегу, и в звенящих ручьях.
Земля постепенно просыхала, солнце пригревало все сильней, и в один прекрасный день наступало чудо цветения садов. У нас в деревне были на разных ее концах два больших колхозных сада: бывший барский, Соколонский, сад и Туманов. Туманов был когда-то богатым мужиком. В 41–42 годах у всех еще были палисадники, это их потом вырубили, когда невмоготу стало платить за каждое деревце непомерные налоги, которые брали независимо от того, давало дерево плоды или не давало.
В Туманов сад мы редко ходили, а Соколонский сад, который взбегал по холму сразу же за правлением, был неотделим от нашей детской жизни. Он не был бы так хорош, если бы лежал на ровной поверхности. Но он простирался от подножья холма до его вершины и еще немного дальше, до самых полей. И разве слова в состоянии описать это бело-розовое марево, которое открывалось твоим глазам, как только ты переступал порог дома! И сколько бы ты ни смотрел на цветущие яблони или вишни, не было ни одного цветка, похожего один на другой. Одни были совсем белые, с едва заметными прожилками, другие украшены розовым цветом, третьи – почти полностью розовые.
Внизу был старый сад, он охранялся, мы там не играли. А наверху был запущенный молодой сад с пчельником, а дальше шли старые яблоневые и грушевые деревья. Среди них были развалины усадьбы Соколоновых, а чуть подальше, у дороги, двухэтажное здание бывшей барской конторы, в котором размещалась средняя школа и библиотека.
Усадьба заросла густым кустарником, пробраться через который было почти невозможно. Но мы все-таки пробирались и бродили по развалинам. Было что-то жуткое в этих обломках кирпичей, поэтому мы не ходили туда в одиночку и всегда разговаривали там шёпотом, как на кладбище. Но однажды я пошла в библиотеку, и ноги сами понесли меня на усадьбу. На мне было плохонькое платье, я не боялась порвать его, поэтому я решила пробраться туда, где мы еще ни разу не были. Я ползла по земле между какими-то колючими кустарниками и, поцарапавшись и порвав в нескольких местах платье, оказалась на поляне, заросшей травами и окруженной с трех сторон вишневыми деревьями. И вот ближе к этим деревьям я вдруг увидела такие необыкновенные цветы, что у меня замерло сердце, потому что я сразу решила, что это души умерших Соколоновых перешли в цветы. Они были причудливой формы и очень по-разному окрашены, на каждом цветке были различные оттенки розового и фиолетового цветов. Я долго смотрела на них, не решаясь сорвать, боясь, что, как в сказке об аленьком цветке, появится вдруг какое-то чудище… Но все-таки сорвала, перекрестившись на всякий случай. Назад ползти было ещё труднее, потому что я боялась повредить цветы. Дома поставила цветы в воду, вечером показала их маме и маме Натане. Они таких цветов тоже не видели. И только через несколько лет в каком-то пособии по ботанике я увидела рисунок этих цветов и узнала, что их зовут красивым латинским именем «аквилегия», что по-русски переводится как водосбор.
Еще одна прекрасная сказка пришлась на мою долю на пасху сорок третьего года. Мы собирались табунком катать яйца у старых дубов, что росли недалеко от тока на горе. На самом деле это была никакая не гора, а просто склон того же холма, на котором раскинулся Соколонский сад. Но мы называли его горой. Было решено дойти лесом до родника, а уж оттуда подняться к дубам. Лес был еще сырой, почки едва наклюнулись, но земля голубела от подснежников. В разных областях называют подснежниками разные цветы. У нас в деревне это голубые цветки с пятью стрельчатыми лепестками. В том же пособии по ботанике, где я увидела аквилегию, был рисунок и нашего тамбовского подснежника с соответствующей латинской надписью.
В этот день солнце особенно переливалось, радовалось жизни и радовало нас бликами на земле и изумлённым дрожанием воздуха.
Все напились у родника и пошли дальше. А я осталась с замершим сердцем. Замерло оно потому, что чуть в сторонке от родника, среди голубых подснежников, росли два белых. Они стояли не совсем рядом, а на некотором расстоянии друг от друга, но на таком, что ясно было, что они принадлежат друг другу. Я стояла, боясь дышать, понимая, что неспроста эти белые души из сказок оказались около родничка, около ЖИВОЙ воды. И столько волшебной небесной музыки звучало вокруг, что сердце неспособно оказалось вместить всю эту красоту, и я заплакала…
В то время каждый шаг за порог дома был шагом в мир красоты и божественных запахов. Всевозможные травки, непохожие одна на другую, высокие травы, кустарники, повилика, мальвы, шиповник, бабочки – всё жило, дышало, переливалось красками, за всем этим была сказка, тайна…
А небо?! От нежнейших полутонов восхода до пугающих своими кровавыми красками закатов… Сколько часов провела я, лёжа в траве или на сене и наблюдая бесконечную игру облаков и туч.
Деревенские дети, даже если они живут в не очень благополучных семьях, гораздо счастливее городских. Эта слиянность с космосом и окружающей красотой чаще формирует характеры, глубоко нравственные по сути своей. И без этой слиянности не было бы таких солнечных всплесков, как Шопен или Есенин. Или Шукшин. И других детей добра и света…
* * *А внутри дома красоты не было. С каждым месяцем жизнь становилась все труднее. Все, что колхозники производили тяжким трудом в своём подсобном хозяйстве, облагалось налогами, заготовками, поставками и бесконечными поборами под различными названиями. Эвакуированным давали хлеба, хотя и немного, а маме, соседке тете Дусе и другим, уехавшим в начале 30-х годов в Мурманск, ничего не давали, они считались местными.
Первый урожай картошки отбирали полностью для армии. Система поборов была хорошо продумана. В обозе были киргизы, они были безжалостны к русским и оставляли только чуть-чуть мелочи. Яиц и масла нам совсем не доставалось. Чтобы выполнить поставки, продавали что-нибудь из одежды и еще подкупали на базаре в Ржаксе. Мама Натаня на такие случаи знала множество частушек, я запомнила только одну:
Привели меня на суд,Я стою, трясуся.Присудили сто яиц,А я не несуся.Лето 42-го года было неурожайным на фрукты, а сдавать яблоки и вишни всё равно были обязаны с каждого дерева, и зимой 42–43 года почти все палисадники и сады были вырублены. Надо ли говорить о том, что творилось в душе хозяина или хозяйки, которые годами и десятилетиями холили каждое деревце, поливали его водой и потом…
Этой же зимой правление колхоза встало на постой в нашей избе. Оно переехало из мельниковского дома потому, что комнаты в нём были большие, потолки высокие, требовалось много дров, а их в колхозе было мало, как раз столько, чтобы протопить обычный дом. Правление разместилось в горнице. Там мы теперь только ночевали, а вся жизнь проходила на кухне. Навидались мы за зиму всяких уполномоченных и заготовителей столько, что на всю жизнь хватит ощущения жестокости и бесправия. Помню, как особенно зверствовал один, который выколачивал деньги на танк «Тамбовский колхозник». Было такое благое патриотическое деяние по всей стране… Из-за закрытой двери слышались крики, мат, стуки кулаков об стол. Редко кто, будь то мужик или баба, выскакивали из горницы без слез. Всем в пример ставили некоего Ферапонта Головатого из соседней области, он до войны продавал мёд и дал сумму, которой хватило на постройку целого танка.
А еще один заготовитель с навек перекошенным ненавистью к людям лицом собственноручно отсадил у дедова тулупа весь низ, да почему-то неровно. Это был последний тулуп, один на
всех, другие два отобрали ещё раньше. И дед, и мама Натаня умоляли его оставить тулуп, но их слезы не помогли. Разумеется, никаких квитанций не давали. Все прекрасно знали, как наживались на таких поборах эти недочеловеки, облечённые неограниченной властью военного времени.
В одном из наших учебников была картина кого-то из передвижников «За недоимки». На картинке было нарисовано, как барский приказчик уводит у крестьян корову. Я спросила у мамы, в чём разница между царским временем и теперешним. Мать побелела.
– Кто тебя этому научил?
– Никто не научил, вчера сама видела, как тулуп отбирали.
– Ишь ведь что удумала, пропастная! Да ты понимаешь, что ты нас всех загубишь?!
И она побежала в коровник к маме Натане. Я поняла по лицу мамы Натани, когда она пришла с подойником, что она всё знает и, улучив минуту, когда матери не было, подошла к маме Натане.
– Мама Натаня, так какая разница?
– Дочка, разницы никакой. Только раньше царь царём назывался, а теперь его вождём кличут. Прежний царь русский был, у него жалости к людям чуть поболе было, чем у этого грузина. Восточные люди – жестокие люди. Только тебе, дочка, об этом рано голову ломать. А если скажешь ещё где-нибудь такое, то и мамку и меня в тюрьму посадят, а то и расстреляют. Поняла?
– Поняла… Мама Натаня, значит, и Семёновну поэтому петь нельзя?
– Ну, смотря какую.
– Ну, вот эту:
«Ах, СемёновнуВсе поют, поют,А за СемёновнуДесять лет дают».– Лучше не петь.
– А зачем же ты на ухо дяде Боре пела, я слышала?
– Да тоже по дурости. Чужих рядом не было, маленько выпили, как тут не попеть.
Но был среди уполномоченных по заготовкам один полковник, которого ирония судьбы занесла после ранения на эту собачью должность, но в котором обстоятельства не уничтожили человека и человеческую совестливость. Про него рассказывали, что он потерял в блокадном Ленинграде всю семью. Он убеждал колхозников тихим, совестливым голосом, и люди несли последнее.
О маме он сказал:
– Побольше бы таких женщин, такая удивительная.
Счетовод по прозвищу Кочучиха хохотала громоподобно:
– Эй, чёрт, в тебя влюбился полковник наш!
Много позже мама как-то призналась мне:
– Он ведь предлагал мне развестись и выйти за него замуж. Это ведь было моё счастье, своими руками я его оттолкнула.
В присутствии полковника даже наш председатель как-то смягчался. Председателем был Терентий Федотович, папин родной дядя. В гражданскую войну он был красным командиром, воевал против Антонова. Никто никогда не видел его улыбающимся. Он ни разу не посмотрел на нас, на детей. Он не выдал нам ни одного зерна, а ведь, небось, видел, чем мы питались. Один хлеб из горчичного жмыха мама Натаня перепекала три раза. Он расползался сырой массой, потому что горстки муки было недостаточно, чтобы тесто схватилось, а больше муки не было.
Всё, что можно было выменять на зерно или муку, мама выменяла. Свой шуршащий крепдешиновый плащ она отдала счетоводу Кочучихе за три пуда зерна. Этим зерном мы и спасались в зиму 42–43 года. Во время войны появилось много самодельных мельниц, почитай что в каждом доме были свои мини-жернова. Молоть зерно приходилось чаще всего нам, детям. Это была тяжелая и скучная работа, ныли плечи, зерно перемалывалось плохо. Куда больше мне нравилось пахтать масло. Делалось это простым способом. Сливки сливали в бутыль, бутыль встряхивали, ударяя о колено. Сначала в сливках возникали желтые кружочки, а потом из кружочков образовывалось масло. Было бы совсем хорошо, если бы мы это масло ели. Но нам оно не перепадало, всё шло на заготовки, спускали норму на масло, забирали и без всякой нормы, а если ещё что-то оставалось, то это масло обменивали на яйца – у нас было почему-то мало кур, – а яйца шли, опять же, на заготовки.
Питались мы плохо, но все же молоко нам, детям, доставалось. Что бы мы делали без нашей Голубки? Она давала хорошие, устойчивые надои. Мама Натаня приучила нас ещё в довоенные времена пить парное молоко. Оно всегда было разным, в зависимости от того, какую траву щипала сегодня Голубка. Иногда она ела полынь, и тогда молоко было горькое, хинное, и пилось оно с весельем, с мамынатаниными прибаутками. Голубка была умная, спокойная корова, но доиться она давалась только маме Натане, маму она за хозяйку не признавала. Она была розовой масти, среди других коров выделялась красотой, и похоже было, что она понимала свою особую стать, потому что выступала всегда с большим достоинством.
В это время появилась вынужденная – горькая и затянувшаяся на многие годы – мода держать по полкоровы. Одной хозяйке было не под силу прокормить корову и уплатить все положенные на неё налоги, вот и оставляли одну корову на два двора. Сколько тут было слез, и горя, и недоеда….
Людские характеры стремительно портились. Обнажалось то, что казалось уже забытым. Мама рассказала такой эпизод. Они работали бригадой в поле. После обеда в самую жару спали в тени дубов. Спали, спали, ну, у мамы с языка и свернулось:
– Бабы, пойдёмте, гляньте, солнышко уже где.
Ну, бабы и поднялись:
– А, нашлась какая ретивая работница! Мы тут хрип сломали, тринадцать лет работаем, а вы уехали, землю побросали, мы её обрабатываем, ничего не получаем, а вы там за мужней спиной сидели, теперь приехали и нас погоняете!
– Кто её побросал-то?! Мы что, добровольно её бросили?! Вы её у нас отняли, вы нас выгнали! На собраниях сидели, голосовали: «Раскулачить их!» Вам мало было земли?! Ну, вот и работайте
теперь, глаза ею засыпьте! По-другому теперь запели!
– Кто голосовал-то?
– Да вы же и голосовали! Забыла, как твой больше всех на собраниях горланил?!
Мама Натаня маму всю исщипала:
– Ты что, война, разве можно такие вещи говорить!
Бабы не прощали маме и соседке тёте Дусе их красивых платьев. Мама и сама была не рада, что остались одни нарядные, выходные платья, одежда попроще была изношена на работе в поле или выменяна на продукты. Да и ехали-то вроде ненадолго, много с собой не брали. Мама купила в Иванове-Вознесенске два прекрасных льняных платья с вышивкой. Эти платья вызывали особую ненависть. Бабы шипели вслед маме и тёте Дусе:
– Ишь, Клащёнка с Дущёнкой опять вырядились, барыни соколонские.
Справедливости ради надо сказать, что к чужим эвакуированным колхозницы относились хорошо, примирялись даже с тем, что, например, приехавшая из Москвы Настя Копытцева, по прозвищу Летучка, была назначена кладовщицей на складе картошки. Настя-Летучка была гулёна-баба. Бывало, прибежит к нам со свидания и говорит шёпотом, слышным на другом конце деревни:
– Барыня соколонская спит?
– Спит, – отвечает мама Натаня.
– Ой, тетя Натаня, какой же он честный! Я волнуюсь, а он меня не трогает… – это она об очередном хахале, которых она приманивала не только своими прелестями и доступностью, но и пышками из чистой муки. На пышки клюнул даже наш родственник и сосед, конюх дядя Ефтей Вавилов, человек положительный и степенный. Тетка Аксинья приревновала его при всем честном народе, и раздор между ними надолго затянулся. Бабы, которые остались без мужей, злорадствовали, это был бесплатный деревенский театр.
У тех, кто читает эти строки, может создаться впечатление, что в нашей деревне были одни плохие бабы. Это не так, хотя иногда крутые обстоятельства и хороших делали плохими. Как подумаешь, какая им досталась доля, то и перо останавливается писать о худом. О том, как работали наши женщины, хорошо написано у Абрамова, Белова и других так называемых «деревенщиков». Может быть, где-нибудь в мире и есть ещё женщины, которым приходилось бы столько много работать и так мало спать, но, по моему знанию мира, нет больше места, где бы женщинам-крестьянкам столько доставалось. Это их великим трудом кормились и выиграли войну солдаты, это они вытянули послевоенное лихолетье.
* * *Война не дошла до нашей области. Правда, Тамбов бомбили, и бомбили много, но на нашу деревню ни одна бомба не была сброшена. Иногда пролетали самолеты, два раза за рощей совершали вынужденную посадку наши самолеты, чем доставили нам, детям, большую радость, в особенности мальчишкам, которые очень долго жили впечатлениями от этих событий.
Поползли слухи о дезертирах. Теперь взрослые запрещали нам ходить поодиночке или вдвоем-втроем в лес по ягоды или за водой к роднику. Говорили, что в Тоненькой прячутся несколько человек. А однажды, в начале лета, вся деревня ринулась на ржаксинскую дорогу.
– Дезертира убили! Ваньку-Шина убили!

