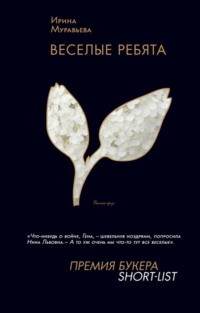Полная версия
Я вас люблю
– Почему? – радуясь тому, что говорит сестра, и сильно смутившись от этого, спросила Таня.
– Не знаю. Нет, знаю! Ну, во-первых, потому что мама сейчас очень страдает. Она никогда такой не была. Ты ведь ее почти не знала раньше, а я помню, какой она была веселой, счастливой. Всё время смеялась. Когда мы жили в Германии и у них с папой всё было хорошо, она так много смеялась, что мне иногда даже стыдно за нее становилось. Встретим какую-нибудь даму на прогулке, мама начнет ей что-то рассказывать, а сама хохочет, хохочет…
Дина вдруг закусила губу и замолчала.
– Что? – спросила Таня, тут же догадавшись, почему она замолчала.
– Прости! – прошептала сестра. – Это должно быть очень больно тебе. Ну, то, что я сказала сейчас. Потому что получается, мама совсем не переживала, что ты… Что она тебя…
Таня обняла ее, притянула к себе и поцеловала. Дина испуганно улыбнулась в темноте.
– Я иногда простить себе не могу, что так мало расспрашивала маму о тебе! – возбужденно заговорила она. – Это было очень гадко с моей стороны. Но мама как будто и не хотела говорить обо всем… сама не хотела. – Она опять испуганно улыбнулась. – Ей, наверное, так было проще: молчит себе, и всё. Но я-то ведь знала уже, что у меня в Москве есть сестра!
– Ты маленькая совсем была. Что ты тогда понимала?
– Ну и что? Маленькие куда лучше больших понимают. Нет, это не оттого, что маленькая, а оттого, что мне не хотелось делиться.
– Кем? Мамой делиться?
– И мамой, конечно. И всем остальным.
– А теперь?
– Теперь по-другому. У меня как разорвалось. Вот знаешь? Там узел был, и я, кроме как о себе самой, совсем ни о ком не думала. Просто даже и не понимала, что кто-то еще бывает, кроме меня. И вдруг этот узел разорвался. Понимаешь? А как он разорвался, так стало всего сразу много. И много, и стыдно. Не знаю, как тебе объяснить…
Она опять обеими руками высоко подняла свои волосы, и черная тень на стене стала кудрявой, как дерево.
– Ты – очень хорошая, – шепнула Таня. – Ты намного лучше меня, ты добрее.
– Ах нет, я совсем не добрее! – горячо возразила Дина. – Когда мама сказала, что мы едем обратно в Россию и я скоро познакомлюсь там со своей сестрой, я стала каждый день перед сном представлять себе, как это будет, какая ты. И все время представляла тебя в большой белой шляпе.
– Почему в шляпе?
– Не знаю. Мне хотелось, чтобы ты была в большой белой шляпе. А ты оказалась сердитой, испуганной. Как я тогда разозлилась на тебя, если бы знала!
– Но что я такого…
– Ужасно! Ты всё мне испортила. Я мечтала о доброй и красивой сестре в белой шляпе, а ты выскочила из своей комнаты, как Баба-яга на метле. Чуть не укусила!
Обе засмеялись.
– Ты, верно, спать хочешь? – спохватилась Дина. – Тебе вставать завтра рано, а я тебе глупости рассказываю.
– Да я не хочу. Не уходи.
Дина с размаху улеглась обратно и натянула до подбородка одеяло.
– Няня всё время говорит, что этой зимой все помрут, – прошептала она. – Она говорит, что, когда царя на фронте убьют или в плен возьмут, тогда немцы придут сюда, в Москву, и мы помрем. Мы с Алисой ей говорим, что этого не будет, а она не верит.
– А мама что?
– Мама всё делает вид, что спит. Я в гимназию ухожу, она спит. Прихожу – тоже спит. Я иногда посмотрю на нее исподтишка и вижу, что у нее глаза открыты. Может быть, она заболела от тоски. Говорят, что это бывает, няня так говорит.
– От тоски по Ивану Андреевичу? – уточнила Таня и осеклась. – Прости! Я хотела сказать, по твоему папе.
– Тебе он – не папа, – вздохнула Дина. – За что ты прощения просишь?
Они помолчали.
– Скоро у нас твой ребеночек будет?
– В конце сентября.
– Ты очень боишься?
– Да, очень! А как не бояться?
– Не бойся! Если бы меня не было, тогда тебе было бы чего бояться. А я всё время буду с тобой. Не бойся!
Таня под одеялом пожала ее горячую маленькую крепкую руку. Вдруг стало легко на душе.
– Говорят, очень больно, когда рожаешь, нестерпимая боль. И это на много часов, иногда даже на несколько дней. Но боль – ерунда, я не боли боюсь. А где будет папа? Мне очень стыдно, больше всего перед папой, потому что я ведь без мужа, и ничего у меня не было, как должно быть: ни свадьбы, ни помолвки. Володя убит… Иногда мне такие мысли приходят в голову! Что вот хорошо бы не проснуться! Заснуть вечером, а утром не проснуться!
Дина изо всех сил обняла ее. Ребенок внутри Таниного живота оттолкнулся ножками от того места, где оказался Динин локоть, и, почувствовав его, Дина всплеснула руками и засмеялась радостно.
– Ты видишь? – восторженно спросила она. – Я так его буду любить! Больше жизни!
* * *Осень наступила незаметно. В самом начале сентября пошли бурные ливни, в результате которых за один день поредели и пожелтели сады, а небо, высокое прежде, надвинулось низко, как шапка, на город, на окна его и деревья.
Мать Тани и Дины, казалось, справилась со своим горем, перестала, во всяком случае, целыми днями лежать в постели, выходила вечерами к совместному чаю, занималась с Диной сама по всем предметам, но, главное, старалась как можно чаще уединяться с отцом и подолгу разговаривала с ним, понизив голос. Таня догадывалась, что разговоры касались ее, и ей было неприятно, неловко за мать, которая словно поставила целью слишком быстро и слишком уж просто наверстать болтовней то, что было пропущено в Танином детстве.
Начало одного из таких разговоров Таня однажды услышала.
– Я чувствую, – говорила мать, звякая ложечкой, – что нам с Диной лучше было бы сейчас уехать куда-нибудь, хотя бы в Финляндию, где до сих пор остался дом, и, может быть, там переждать, пока это всё закончится…
– Что – это? – перебил отец. – Война, ты имеешь в виду?
– Ну да, – нерешительно сказала мать, и по ее тону подслушивающая в коридоре Таня догадалась, что матери хочется, чтобы отец начал отговаривать ее.
– Смотри сама, – мрачно пробормотал отец. – Я бы не советовал, потому что никто не знает, когда это всё закончится, да и чем закончится…
– А чем это может закончиться? – вздохнула мать.
– Да чем? Чем угодно. Слышала, какие куплеты теперь распевают? «Небылица пришла, небывальщина, да неслыхальщина, да невидальщина…»
Мать грустно засмеялась.
– Но я не могу взвалить на тебя всё… Ты и так столько сделал для нас! И если бы не то, что должен родиться ребенок…
– При чем здесь ребенок? – опять перебил отец, и Таня почувствовала, как он покраснел. – Ты что, собираешься нянчить этого ребенка?
– Ты всячески подчеркиваешь, – прошептала мать, – что я не имею никакого отношения к своей дочери, раз мне не довелось растить ее. Это ведь ты подчеркиваешь?
Отец несколько раз кашлянул.
– Я ничего не подчеркиваю. Я просто смотрю правде в глаза. Да, ты не растила ее, и у этого факта есть свои последствия. Они есть. А как же иначе?
– То есть Таня не верит мне, не доверяет и не будет мне верить, что бы ни было?
– Мы не в штабе немецкой разведки, – почти грубо оборвал ее отец и тут же испуганно забормотал: – Прости, глупость брякнул!
Мать всхлипнула.
– Ну, что ты, ей-богу! – Таня поняла, что он, наверное, дотронулся до матери и, может быть, гладит ее по голове, как часто гладит Таню. – Я совсем не в упрек… Уж ты настрадалась!
– Разве я не понимаю, что вам будет лучше, когда мы уедем? Но Дина так привязалась к ней, она этим ребенком просто бредит!
– Не нужно тебе никуда срываться! Пусть Дина хотя бы закончит гимназию…
– Ты хочешь, чтобы мы еще три года висели на твоей шее?
– У меня крепкая шея. Вот смотри. Видишь, какая? Как у быка.
Потом они оба вдруг замолкли. Таня старалась не дышать. Живот мешал ей, ноги затекали.
– Голубчик ты мой! – нежно и прерывисто воскликнула мать. – Я вспоминаю, как мы стояли с тобой под венцом, и думаю: вот если бы тогда мне сказали, что через двадцать лет я буду жить в твоем доме, и наша с тобой дочь будет, как няня говорит, «на сносях», и одна, не замужем, и жениха у нее убили, а я сама, только овдовевшая, сяду тебе на твою «бычью шею» с дочерью от другого человека, которого ты, должно быть, проненавидел всю жизнь…
– Глупости! – перебил отец. – Я не любил его, это правда. А за что мне было любить его, сама посуди? Но ненависти к нему у меня никогда не было. Зачем ты такие слова говоришь?
– А ко мне? – тихо спросила мать и всхлипнула.
– К тебе? – глухо переспросил отец. – К тебе я только однажды почувствовал ненависть. Но это прошло, слава богу.
– Когда? Когда я ушла?
– О нет, не тогда! Тогда я был просто растерян, раздавлен. Мне всё казалось, что произошло какое-то постыдное для меня недоразумение, я в чем-то не разобрался и отпустил тебя только по недоразумению, по глупой своей гордости… Нет, ненавидел я тебя не тогда, когда ты ушла…
– Скажи, а когда?
– К чему тебе это? – измученно пробормотал отец. – Столько лет прошло… К чему ворошить… Что за прихоть?
– Какая же прихоть? И раз ты уж начал…
– Хорошо! Давай я продолжу. Я возненавидел тебя, когда ты написала, что ждешь ребенка. Вот тут я действительно чуть с ума не сошел. Представил тебя беременной от Зандера, и меня всего перевернуло! Объяснить трудно. Но я тебе говорю, как было. Отвращение, которое я тогда испытывал, – к тебе отвращение, к нему, к будущему вашему ребенку, а больше всего – к твоему, чужому для меня, загаженному телу… Ох, лучше не вспоминать! И еще, знаешь, что меня тогда потрясло? Какая мысль в меня засела?
Отец глубоко и часто дышал.
– Какая?
Таня услышала, что мать плачет.
– Я задал вопрос тогда Богу: «За что? За что именно мне? Что я-то сделал?» Ну, сама посуди: не воровал, не убивал, не развратничал, и вдруг на ровном месте – такое несчастье! Ушла молодая, любимая, обожаемая жена, и ушла к другому, ни с чем не посчиталась, оставила меня, идиота, с девочкой на руках! И вот вам вдобавок, пожалуйста! Она ждет ребенка! И мне сообщает, как лучшему другу! А то, что я на нашей с тобой кровати спать не мог, велел ее выбросить к чертовой матери, что мне каждую ночь снилось, как я тебя обнимаю, и разрыдался однажды прямо в ординаторской, вспомнил, как Танька к нам маленькой в эту кровать прибегала в своей рубашонке, как ангелок, вся в веснушках… Ах, Господи, что говорить! Зачем мы начали с тобой этот разговор сейчас! Не понимаю!
– Прости ты меня, ради Бога!
– Вот Бог и простит.
Мать перестала плакать. Минуту была тишина.
– Погоди, дай мне уж тогда до конца досказать, – снова заговорил отец. – Однажды я снял с полки Библию, открыл книгу Иова, приладился к лампе и стал читать. Там появляется сатана, который и говорит Господу, что, мол, дай мне испытать раба Твоего Иова, потому что разве даром он так богобоязнен? Не Ты ли, мол, Господи, кругом оградил его, и дом его, и всё, что есть у него? А вот простри руку Свою и коснись всего, что есть у него, так благословит ли он Тебя после этого? И после того позволил Господь сатане погубить и детей Иова, и скот его, и дом, но Иов не возроптал против Господа, а сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благословенно!» Но сатана и на этом не успокоился и стал говорить Господу, что за жизнь свою отдаст любой человек всё, что есть у него. «Коснись кости его и плоти его – благословит ли он Тебя?» И отступился Господь от Иова, а сатана поразил его проказой от подошв и до самого темени. Но Иов и тут не произнес хулы Господу, а взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. – Отец перевел дыхание и замолчал. Таня поняла: он догадался, что она стоит и подслушивает в темноте. – Дальше рассказывать?
– Да, – еле слышно ответила мать.
– Я скоро закончу. И вот не выдержал Иов своих страданий и проклял день свой и благословил смерть. Это так сказано: «Для чего не умер я, выходя из утробы? Зачем приняли меня колена, зачем мне было сосать сосцы?»
– Боже мой! – услышала Таня убитый и опять громкий голос матери. – Страшно как то, что ты говоришь… Ведь это любому так кажется…
– Нет, погоди! К тому же не я говорю, так написано. К Иову приходят друзья, чтобы поддержать его в горе его и сетовать вместе с ним. И вот один из друзей говорит ему, что, мол, человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. А? Понимаешь? Я даже сначала не понял – как это? Я от своего страдания весь к полу пригнулся, от унижения только что ростом меньше не стал, а тут говорят, что от страдания человек должен, как искры, наверх устремляться! Как искры! Ты слышишь?
– Я слышу.
– Ну, вот. Я тогда очень многое понял. Не сразу, конечно. Но ненависть сразу прошла.
– Не верю я тебе! – вздохнула мать. – Это тебе так хотелось бы чувствовать…
– Ну, будет, – прошептал отец. – Поговорили и хватит. Всё давно быльем поросло.
– Да не поросло, не поросло, Антоша! Что ты меня утешаешь?
– А ты не уезжай! – забормотал отец. – Война кругом, мир шатается, люди гибнут, души разлагаются. У нас с тобой – дочери, страшно за них. Ты посмотри, ведь что такое война? Теперь все самое грешное, самое смрадное, что может быть в отношениях одного человека к другому, называют геройством, раз это имеет место в отношениях между народами. Придумали там отговорку: «народы»! А что это значит? При чем тут народы? Россия в один день позабыла, что такое великая германская мысль, а Германия и вовсе объявила Россию диким варваром! И всё ведь позволено, ни в чем никаких ограничений! Ты посмотри, что они теперь в синема показывают! Мне коллега вчера рассказал, что они с женой пошли посмотреть одну фильму. Снят бой. И показано, как умирают. А ведь всякого человека любит же кто-нибудь!
Отец замолчал.
– Не смей никуда уезжать! – резко сказал он после паузы. – У нас с тобой дети. Две малые дочки. Одна, правда, с пузом, но это неважно.
Тяжело ступая на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, Таня вернулась к себе и, поддерживая обеими руками живот, легла на неразобранную постель. Она уже не сомневалась, что отец догадался, что она подслушивает, и обращался к ней не меньше, а, может быть, даже и больше, чем к матери.
Он любит мать, он любил ее все эти годы. Значит, все эти годы Таня, ни о чем не догадываясь, прожила бок о бок с отцовским мучением. Она вдруг остро вспомнила, как однажды летом они пошли гулять с Алисой, рвали ромашки и васильки для букета и незаметно зашли далеко, оставив позади желтое, с синими огоньками васильков поле, и вдруг хлынул ливень, и всё потемнело. Перед ними была деревня, и они бросились к первой попавшейся избе, задыхаясь от смеха и приятного страха, закрывая головы только что сорванными цветами… Они вбежали в избу, где было очень тепло, полутемно, окошки закрыты. В полутьме Таня разглядела печь, стол и, как сначала показалось ей, корытце на лавке у окна, которое оказалось маленьким гробом, в котором лежал мертвый ребенок. За столом вполоборота к Тане сидела очень большая, с огромными плечами и грудью, слепая девка и с жадностью хлебала деревянной ложкой из стоящей перед ней миски, макая в нее куски хлеба и звонко причмокивая. По мертвому лицу ребенка ползали мухи, и те же мухи вились над миской, из которой хлебала слепая, и еще больше мух облепило недавно побеленную печь, которая, как сугроб, выплывала из темноты… Таню испугало тогда не то, что в избе, куда они случайно забежали, оказался мертвый ребенок, а то, что рядом с этим ребенком, на расстоянии вытянутой руки от него, спокойная, неподвижная, словно ее сделали из камня или вытесали из дерева, сидела эта девка и жадно, уставив в окно, за которым хлестал дождь и разрывались молнии, свои мутные белые глаза, ела и ела, не останавливаясь, словно не знала и не чувствовала никогда ничего другого… Тогда Таня еще не могла объяснить себе, отчего это так сильно впечаталось в память и отчего ее память всякий раз быстро и услужливо, словно картинку из волшебного фонаря, заново выдвигала тусклые, но страшно важные подробности этой минуты.
Сейчас она вдруг поняла. Она догадалась, что всё так на свете. Один умирает, другой – сидит ест. И мухи – на мертвом лице и на хлебе. Отец плакал в ординаторской, потому что его «любимая» – как он это сказал? – «молодая, обожаемая» жена ушла к другому человеку, этому самому несчастному Ивану Андреевичу Зандеру, а мать, как говорит Дина, до слез хохотала, болтая со знакомыми дамами на прогулке, и радовалась жизни. И всё это одновременно. И в этом – всё дело. Володя Шатерников лежал в госпитале и писал ей страстные преданные письма, а она в это время мечтала об Александре Сергеевиче, который однажды – один раз, единственный! – сказал ей: «Иди ко мне, девочка» – и она тут же с готовностью села к нему на колени.
– И это всегда так? – спросила она темноту и ответила себе: – Да, это всегда. Тогда всё понятно.
Что понятно, она не знала и не могла найти слово, которое объяснило бы это что, но чувствовала, что приблизилась к общему для всех людей закону жизни, которая тем и сильна, что не дает ничему живому остановиться, и более того, дольше нужного задержаться на чужой боли, но выталкивает из нее любого постороннего, и он, посторонний, как птенец, который крутит испуганной, мягкой своей головой, стыдясь и робея наставшей свободы, уходит в свое, где ему не мешают.
«Я никогда не забуду Володю! – подумала она. – Неужели я забуду его? – И вдруг покраснела до слез, хотя никто на свете не знал того, о чем она сейчас вспомнила. – Я такая же, как мама. А может быть, все мы такие?»
Внезапная острая боль пропорола ее. Она привстала, чтобы разобрать постель и лечь поудобнее, но та же самая боль снова выкрутила тело изнутри так, как выкручивают белье перед сушкой. Ладони и лоб стали мокрыми. Она села на корточки, вжала голову в колени, пытаясь спрятаться от этой боли, но тут же что-то горячее полилось из нее, и, зажав обеими руками рот, Таня сквозь побелевшие от боли и напряжения пальцы закричала так громко, что услышали не только мать с отцом, которые всё еще сидели в столовой, но и Дина, и Алиса Юльевна, и даже няня, которая давно уже слышала плохо и жаловалась на это…
Ребенок появился на свет в полдень. А в полдень на улице за окном было такое сильное солнце, словно опять наступило лето, и мертвые серые листья на яблоне сверкали, как будто рожденные заново.
Ребенок был мальчиком.
– Ого! – радостным, дрожащим от волнения голосом воскликнул отец, когда новорожденного, только что спеленутого, в белом чепчике, положили ему на руки, и доктор, принимавший роды, заговорщицки подмигнул ему. – Вот это казак так казак! Ну, Танька! Я думал, ты хилая барышня! А ты нам, гляди-ка, кого родила! Илью просто, Муромца!
– Дай мне его! – протягивая руки к ребенку, попросила Таня. – Нельзя так держать, ты уронишь! Ну, папа! Ну, дай же скорее!
* * *Скудная, тусклая, свинцовая осень прошла почти незаметно, запомнившись только бессонными ночами, болью растрескавшихся сосков, постоянным страхом, что няня, или Алиса, или отец, или вдруг резко вытянувшаяся, похорошевшая Дина сделают что-то не то и мальчик умрет. Это острое животное чувство, что хорошенький, крепкий, с молочного, нежного цвета щеками, с огромными голубыми глазами сын вдруг может умереть, было таким постоянным и так мучило ее, что Таня боялась спать и даже когда оставляла его, оставляла не больше, чем на двадцать-тридцать минут, тут же стремилась обратно, в детскую, туда, где был он и изо всех сил таращил голубые, сосредоточенные на своей младенческой жизни глаза. Всех остальных она видела словно во сне. Во сне же к ней несколько раз приходил и Шатерников, и во сне она вдруг остро почувствовала его запах: он был таким же, как в день, когда они встретились в вестибюле госпиталя.
Реже всего, как ни странно, она сталкивалась сейчас с матерью. И Дину, и няню, и гувернантку, и – особенно – отца появление ребенка только приблизило к Тане, казавшейся им еще девочкой, которой нужно помочь, но матери тут же открылось другое, она одна угадала, что никакой девочки больше нет, а рядом с ней женщина – пускай молодая, но с твердым характером, – и эта женщина, только что высвободившаяся из девочки, барышни, и тут же проверившая на собственном опыте, что значит ребенок, которого ты родила, – эта женщина может осудить ее еще строже, чем прежде.
Зимою опять начались перебои с дровами, мукой, молоком, яйцами, все знали, что дела на фронте идут из рук вон плохо, но Татьянин день, праздник основания Московского университета, отмечался двенадцатого января так же весело, шумно, бестолково, как отмечался всегда, во все прежние годы. Отец, который обычно сторонился столь шумных увеселений, неожиданно изъявил желание пойти и долго приводил себя в порядок, стоял перед зеркалом – грузный, с широкими плечами и ярким взглядом. Остановившись в дверях его кабинета с Илюшей на руках, Таня вдруг подумала, что отцу-то всего пятьдесят лет и он обаятелен, бодр, умен и может еще очень сильно понравиться, особенно когда лицо у него вдруг по-молодому разглаживается и веселеет взгляд.
– Куда после ужина? – спросила мать, когда он, заматывая вокруг шеи белый шелковый шарф, стоял в коридоре, собираясь уходить. – Наверное, в «Яр» или в «Стрельну»?
Он быстро, внимательно взглянул на нее.
– Какая там «Стрельна»? А сухой закон?
– Какой там закон? – в тон ему ответила мать. – Кто его соблюдает в этой стране? Это тебе не Германия.
– Ну нет, не скажи! – Отец поднял вверх указательный палец: – «Лица, оказавшиеся виновными в нарушении государственного постановления, подвергаются заключению в тюрьму или крепость на три месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу в три тысячи рублей»! Во как! Не фунт изюму!
– Цыганок позвали? – усмехнулась мать.
– Война вокруг, милая, – закашлялся отец, – какие цыганки…
– Цыганки, которые пляшут, а также еще и поют, – уклончиво ответила мать и, наклонив голову, смерила его странным взглядом. – Какую из них ты особенно любишь? Наверное, Настю?
Тане показалось, что она ослышалась. Все эти месяцы, начиная с сентября, когда появился ребенок, ей было ни до чего, и она не представляла себе, что происходит совсем рядом с ней, в этом доме, да и происходит ли что-то. Сейчас оказалось, что – да, происходит. Отец иногда по два дня не возвращался домой из больницы, где дел становилось всё больше и больше, а медикаментов и перевязочных средств всё меньше, несмотря на то что ни один человек в Москве не верил ни патриотическим лозунгам в газетах, ни глупым народным частушкам, сочиняемым господами поэтами, ни дурацким представлениям в театрах, вроде «Тетушка огерманилась» или «Вова на войне», ни фильмам на экранах кинематографов «Подвиг рядового Василия Рябова», «Слава нам, смерть врагам», а верили только людям, которые возвращались оттуда, хотя вернувшиеся были немногословны. Происходило это оттого, что военная жизнь гораздо проще, чем она кажется со стороны, и даже ужасное слово «бой», сопряженное для гражданского человека с огнем, криком «ура-а!», устремлением вперед и неминуемой гибелью, – даже это слово означает только то, что прежде всего нужно вырыть окоп, настелить в него свежей соломы, набросать полушубков, установить телефон и когда поступает распоряжение обстрелять такую-то или такую-то высоту, то не стоит делать этого сразу, потому что есть еще время достать портсигар и перекурить. Они, то есть военные люди, знали, что на войне никто никого не ненавидит, если не считать только минут ярости и слепого остервенения в пехотных атаках, и убивают друг друга по тому же неведению, безответственности перед Богом и равнодушной беспечности, согласно которым живут и в обычной своей гражданской жизни, где вместо убийства прямого всякий норовит убить своего ближнего косвенно или подставляет собственную свою, лысеющую голову под тихий, но не устающий топор…
Обычно отец приходил домой из госпиталя уставшим, заглядывал в детскую, где крестил и целовал маленького Илюшу, потом мылся, наскоро ел то, что оставляли ему на столе, и валился спать. Казалось, ни на что другое у него нет и не может быть ни сил, ни времени.
Двенадцатого января метель в Москве была сильной, и лошади вязли, брели совсем медленно, а извозчики в толстых, как подушки, тулупах были особенно разговорчивыми и дружелюбными, поскольку все выпили где-то – тайком и на скорую руку, – лишь бы не мерзнуть, а главное, не пропустить в такой сумасшедшей метели своих седоков.
Илюша не спал и не давал заснуть Тане, которая всякий раз приходила в ужас от его плача, боясь, что он означает какую-нибудь болезнь, и сейчас, качая его, напевая, мурлыча, она то и дело выбегала в прихожую, чтобы проверить, не вернулся ли отец с его холостой и веселой пирушки. Замученная, под утро она все-таки заснула, провалилась, но сквозь сон ей послышалось, как кто-то возится в прихожей с замком, потом прошелестели шаги, похожие на шаги ее матери, потом в раскрытую дверь детской влетела струйка свежего морозного воздуха, и Таня, не раскрывая глаз, увидела, что струйка эта была розоватого зимнего солнечного цвета, потом она услышала, как рассмеялся отец, и звук его смеха был похож на тот, с которым весною радостно и хрипло звучит дерево, освобождаясь от целую долгую зиму давившего на него мерзлого снега.