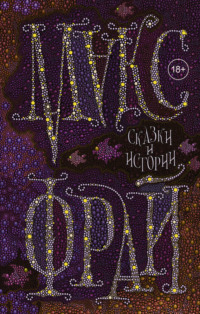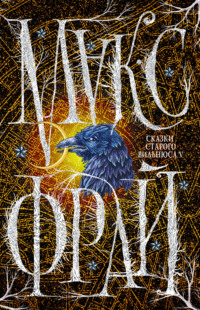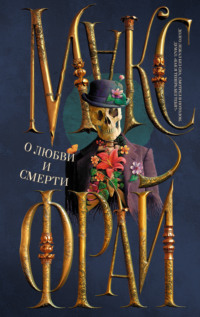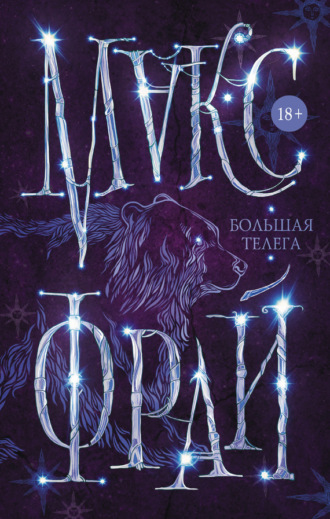
Полная версия
Большая телега
– Понимаешь, и герцог Станислав, и Эмиль Галле – они знаменитости, великие люди, каждый в своем роде. А про знаменитостей чего только не рассказывают. Я бы не стала искать этот почтовый ящик, если бы не Доротея. Она – хозяйка квартиры, которую я снимаю. Уж точно не знаменитость. Хотя, конечно, обычной дамой ее не назовешь. Ей уже почти шестьдесят, а с виду больше сорока не дашь. Красивая – слов нет. И светится изнутри, как лампы Галле, которыми я тебе зачем-то все уши прожужжала. И вечно занята по горло, у нее художественная студия, где дети учатся рисовать вместе с родителями, два литературных клуба, один для читателей, а второй для любителей придумывать детективные сюжеты, раз в неделю она проводит экскурсии по городу, причем только для местных жителей, которые давно привыкли жить среди этой красоты и поэтому ее не замечают, и еще что-то – я, видишь, запомнить не могу, а она все это придумала, организовала и уже много лет на себе тянет. И, похоже, ужасно счастлива… Так вот, мы как-то незаметно подружились, я вообще легко схожусь с людьми, и однажды Доротея мне рассказала, что прежде жила совсем иначе: бездельничала, скучала, часто болела, детей не завела, и муж ее, как водится, бросил ради молоденькой студентки, после двадцати лет совместной жизни – что еще надо женщине, чтобы почувствовать себя абсолютно несчастной? Говорит, что не покончила с собой только потому, что трусиха, никаких иных резонов жить дальше у нее не было. И тут в один прекрасный день она обнаружила на пороге извещение. Дескать, на ваше имя пришла корреспонденция, будьте любезны явиться по адресу…
– Улица Сельер, сад Цитадели, – продолжил я.
– Нет-нет-нет. Парк Шарля Третьего. Это в другой стороне, возле реки. Неважно. В общем, совсем рядом с ее домом, поэтому Доротея не удивилась, решила, что почтовое отделение переехало по другому адресу. В парк, так в парк, чего только не случается. И пошла. Но в парке, конечно, никакого почтового отделения не было, только клумбы, кусты, скамейки и мамаши с колясками. Доротея ужасно расстроилась, села на скамейку под деревом в стороне от прогулочных дорожек, чтобы никто ее не видел, расплакалась, и никак не могла успокоиться – ну, знаешь, как бывает, когда все плохо, любая мелочь может стать последней каплей. Сидела, рыдала, и вдруг почувствовала, что в ее затылок упирается что-то твердое. Обернулась, а там, на дереве, металлический почтовый ящик. Самый обычный, точно такой же, как у нее дома, только без номера квартиры и прикручен к стволу куском каната с обрывками тряпичных флажков, как будто его на каком-нибудь детском празднике позаимствовали. И Доротея так удивилась, что даже плакать перестала. А потом увидела, что ящик приоткрыт, и внутри что-то белеет. И, почти не соображая, что делает, протянула руку и взяла конверт. А там ее фамилия. И внутри – нет, не открытка, а просто письмо. Доротея мне не пересказывала, что там было написано. Только сказала, что нашла в письме очень простые и понятные ответы на все вопросы, которые у нее никогда не хватало смелости себе задать. И что назвать это письмо спасательным кругом для утопающего – значит очень сильно преуменьшить его значение. И что с тех пор все стало совсем иначе… И вот ее история меня зацепила. Так зацепила, что я уже который день по паркам брожу, и не только по паркам, хотя мне-то никакого извещения не присылали… Но все равно.
– Погоди, а почему ты просто не пошла в парк не помню какого по счету Шарля?
– Третьего. Конечно же, я туда пошла. Первым делом! Но там не было никакого почтового ящика. Понимаешь, не факт, что он всегда висит на одном и том же месте. Доротея говорит, что слышала похожую историю от человека, который нашел почтовый ящик с каким-то важным для него письмом на набережной Мёрта[6]. Он там просто валялся, как сломанный стул. Это, конечно, может быть выдумка. И история самой Доротеи тоже. Она вполне могла меня разыграть, почему нет. В Нанси, как, наверное, в любом другом городе, обожают потешаться над приезжими, особенно над романтичными натурами, вроде меня. Мне вон недавно на университетской вечеринке коллеги с серьезными лицами описывали торжественный выезд герцога Станислава, который якобы можно увидеть на площади в самую темную майскую ночь, и любезно подсказывали, что ближайшее новолуние двадцать четвертого мая, то есть, буквально на днях, надеялись, я побегу проверять… А все-таки сюжет с письмами и почтовыми ящиками повторяется слишком часто. И нравится мне так сильно, что я просто не могла не поверить. И, потом, мне сейчас, кажется, вообще больше не на что надеяться, – вздохнула она. Смутилась, словно сказала лишнее, но тут же встряхнулась и деловито спросила: – Так ты поможешь мне забраться на дерево? Подсадишь?
Я открыл было рот, чтобы рассказать наконец свою историю и объявить, что там, на дереве,мой почтовый ящик, а в нем моя корреспонденция, но в последний момент передумал. Чего зря болтать. Пусть лезет, если так припекло, а там видно будет – чья это корреспонденция, если она там вообще есть, в чем я очень со… Да нет, вру. В тот момент я не испытывал никаких сомнений. Внутренний скептик уставился на меня, разинув рот, словно впервые увидел. И его можно понять.
Я, впрочем, и без его подсказки осознавал, что со мной творится неладное. Получить необъяснимое телефонное уведомление и из любопытства явиться по указанному адресу – это еще куда ни шло. Заинтересоваться обнаруженным в парке почтовым ящиком – совершенно нормально, а кто бы на моем месте не заинтересовался? Выслушать все, что рассказала мне первая встречная эксцентричная фрау – ладно, допустим; в конце концов, это был очередной экзамен по разговорному немецкому, который я сдал на твердую «пятерку», понял все, до единого слова. Но пялиться на облезлый почтовый ящик, как на святыню – это уже перебор. Думать: «Там очень важное послание, которое перевернет мою жизнь», – как минимум, глупость. А сказать себе: «Ладно, пусть сначала девочка посмотрит, ей, похоже, здорово приспичило», – это уже натуральное безумие. Потому что пока ты чего-то для себя хочешь, пусть даже чуда – все более-менее в порядке, желание вовсе не тождественно вере. Но когда ты готов что-то отдать, значит, полагаешь, будто оно у тебя есть. Это уже не слепая вера, а твердое знание. Верный признак безумия, если называть вещи своими именами.
И если продолжить называть вещи своими именами, придется признать: в тот момент я совершенно точно знал, что в почтовом ящике на дереве лежит послание, которого я ждал всю жизнь, сам не понимая, чего жду. И одновременно я знал, что если ящик откроет Биргит, окажется, что письмо адресовано ей, а я останусь не у дел, жалким очевидцем, которому, в случае чего, никто не поверит, так что и пробовать рассказать эту историю бессмысленно. Таковы правила игры, я их не придумал, они существуют сами по себе – и очень жаль, кстати, будь это мои фантазии, в них непременно нашлось бы место достойному компромиссу, мы с Биргит достали бы из этого чертова ящика, как минимум, два письма, а лучше – еще дюжину, для родных и близких, чтобы все были довольны.
Я, видимо слишком долго молчал, потому что Биргит почти шепотом повторила свой вопрос:
– Так ты мне поможешь?
Она была такая трогательная – стриженая, белобрысая женщина без возраста, похожая на мальчишку, в бесформенной одежде, с дурацким розовым рюкзаком. На лице запоздалое смущение, а в глазах – такая дикая смесь надежды и страха, что я предпочел не заглядывать глубже, не высматривать, что заставило ее цепляться за дурацкую городскую легенду, как за единственный шанс на спасение – от чего, от кого? Не хочу этого знать. Пусть лезет в ящик, пусть найдет там свое письмо. Ей, похоже, действительно очень надо.
– Конечно помогу, – улыбнулся я. – Если ты встанешь мне на плечи, скорее, всего, дотянешься.
– А ты выдержишь? – Забеспокоился Биргит. – Я сейчас такая толстая! Шестьдесят семь килограммов, – и, мучительно покраснев, поправилась: – Это две недели назад было шестьдесят семь, а теперь, наверное, уже все семьдесят…
– Какая ерунда, – мужественно сказал я. – Кстати, при твоем росте вполне нормальный вес, так что не выдумывай.
Как бы я ни храбрился, но природа, увы, создала меня не для переноски тяжестей, а с какой-то иной, до сих пор неведомой мне целью. Поэтому когда я присел на корточки, и Биргит вскарабкалась мне на плечи, я едва не завалился на бок. А когда осознал, что сейчас мне предстоит подняться с этим грузом, окончательно утратил надежду на успех нашего предприятия. Но все-таки начал понемногу выпрямляться, упирась руками в кленовый ствол. Биргит тоже держалась за дерево, старалась перенести на него часть своего веса, и вообще помогала мне, как могла. Думаю, у нас все получилось лишь потому, что ее вера в меня была несокрушима.
Когда Биргит крикнула: «Есть!» – я ушам своим не поверил, но присел, медленно и аккуратно, и только когда она, наконец, слезла, позволил себе расслабиться и тут же рухнул на траву, как мешок с навозом – при условии, что мешки с навозом способны испытывать облегчение и блаженство.
– Я тебе что-то повредила? – Испуганно спросила Биргит.
– Не выдумывай, – отмахнулся я, вытягиваясь в полный рост. – Мне хорошо. Так что, там было какое-то письмо?
– Было! Есть! Я взяла! – звенящим от счастья и ужаса голосом доложила Биргит. И шепотом добавила: – Оно мне! Тут мое имя. Мое имя! Только теперь открывать страшно.
– Мне бы тоже было страшно, – сказал я. – Но я бы все равно сразу открыл. Пока оно не передумало.
– Кто – «оно»? – Растерянно спросила Биргит.
– Письмо, конечно. Пока оно не передумало быть адресованным мне.
Слышал бы меня сейчас внутренний скептик.
Но на Биргит мои слова подействовали: она, наконец, вскрыла конверт, достала оттуда сложенный вчетверо бумажный листок, развернула, принялась читать. А я лежал на спине и смотрел снизу вверх, как меняется ее лицо. Как уходит напряжение, разглаживаются морщинки, а глаза начинают сиять. Преображение это было столь стремительным и великолепным, что я вдруг почувствовал себя лишним. Такие вещи должны происходить с человеком, когда он один, подумал я. Без свидетелей, без посторонних.
Я осторожно поднялся и, стараясь ступать беззвучно, пошел прочь. Напрасная предосторожность – Биргит сейчас, пожалуй, и на работающую газонокосилку не обратила бы внимания. Весь мир временно исчез для нее, и я вместе с ним. Оно и к лучшему.
Все к лучшему, абсолютно все, говорил я себе час спустя, сидя на скамейке в парке имени Шарля Третьего, куда, разумеется, не мог не пойти.
Ей было очень надо, ты это сам видел, а потом ты видел, как исчез ее потаенный страх, и это было лучшее зрелище в твоей жизни, – напоминал я себе два часа спустя, за столиком уличного кафе, разбавляя душевную горечь горчайшим эспрессо, сваренным из тщательно сожженных зерен с лучших бразильских плантаций.
В конце концов, зачем тебе какое-то послание, пусть даже самое расчудесное, спрашивал я себя три часа спустя, на углу улиц святого Николая и не менее святой Анны, которые, если верить купленной утром карте, не могли пересекаться, поскольку шли параллельно друг другу. У тебя все и так хорошо, напоминал я себе, жизнь твоя прекрасна и удивительна, хоть и не соответствует порой ожиданиям – так она вроде бы и не должна.
Тем более, там наверняка была написана какая-то херня, – на этот раз внутренний скептик действовал из наилучших побуждений. Он всерьез полагал, что меня можно таким образом утешить.
Это у меня на лбу написана какая-то херня, огрызнулся я. И в книге судеб напротив моего имени заодно. Огненными скрижалями.
Но, вопреки столь мрачному ходу мыслей, я вдруг улыбнулся, потому что снова вспомнил, как менялось лицо Биргит – прежде я никогда не думал, что человек может так преобразиться за одно мгновение, а теперь знаю – бывает.
Собственно говоря, возможно это и было послание, адресованное тебе, балда, подумал я. Важная информация, внятный ответ на вопрос, который ты нипочем не додумался бы задать. Тебе сейчас прыгать от радости надо, а не таскаться с унылой рожей по прекрасному городу Нанси, который, честное слово, не заслужил подобного отношения.
Мне вдруг стало так хорошо, что я решил никуда пока не идти, чтобы не расплескать это удивительное ощущениепокоя и воли – вот какое состояние, оказывается, описывает давно опостылевшая мне цитата, пока не попробуешь, не узнаешь, как это бывает, и ни черта не поймешь.
Я присел на ступеньку ближайшего дома и сидел так долго-долго, подставив лицо горячему солнцу и холодному ветру по имени Вож, который сперва всласть наигрался с моими давно не стриженными волосами и полами распахнутой куртки, а потом вдруг швырнул мне под ноги бумажный комок и притих, выжидая.
В другое время я бы на эту скомканную бумажку внимания не обратил, а теперь поднял, развернул, разгладил и, наконец, решился посмотреть – что там?
Там было написано от руки, бегло и неразборчиво: «Все только начинается», – и больше ничего. Никаких разъяснений – что именно начинается, для кого, когда и зачем, и как в связи с этим я должен себя вести. Но этого оказалось достаточно, чтобы мы с внутренним скептиком дружно перевели дыхание, обнялись от полноты чувств, поерзали на ступеньке, устраиваясь поудобнее, и сидели так долго-долго, а потом…
β
Когда умолкли колокола Гроссмюнстера[7], а секундой позже – Фраумюнстера[8], вторившие им с другого берега Лиммата, и наступила так называемая тишина, густо замешанная на разноязыком гуле голосов, урчании автомобильных двигателей и перезвоне резвых синих трамваев, я услышал, что где-то поблизости играет орган – недостаточно громко, чтобы я мог вот так сразу разобрать мелодию, но и не настолько тихо, чтобы сказать себе: «померещилось». Пожал плечами – дескать, надо же, чего только не бывает, пошел дальше и лишь сделав несколько десятков шагов, понял, что уже не просто бреду куда глаза глядят, а целеустремленно направляюсь к источнику звука. Всегда подозревал, что при случае потащился бы за дудочником из Гамельна на край света, даже если там, на краю лишь огонь и вода; выходит, за органистом из Цюриха – тоже, как миленький.
Он, впрочем, оказался баянистом – такова была глубина моего падения. Толстый старик с баяном, одетый как огородное пугало из зажиточной усадьбы, сидел на раскладном стуле у входа в Васеркирхе[9], у ног распахнутый чемодан выставил на всеобщее обозрение плюшевую подкладку цвета небесного гнева, рядом пластиковая лоханка для пожертвований, почти до краев наполненная мелкими монетами. Из центра этой нелепой композиции лилась Баховская фуга, не то До, не то Ре мажор, короче, та самая – тот факт, что я всегда теряю разум, услышав первые же аккорды, совершенно не помогает запомнить название; скорее, наоборот. На почтительном расстоянии топталась добрая дюжина опьяненных внезапной культурной атакой жертв; теперь я был одним из них, и ничего не мог с этим поделать. Бах есть Бах, в любом исполнении.
И, кстати об исполнении. Самое поразительное, что оно абсолютно меня устраивало – даже теперь, после наглядного знакомства с недостойным источником божественных звуков. И не потому что я утратил последние остатки критического подхода к действительности, это проклятие, боюсь, никогда меня не оставит, просто музыка звучала безупречно, не придерешься. Что-то тут было не так. Вернее, вообще все не так. Я знаю, что фуги Баха вполне можно воспроизвести на баяне, в конце концов, тоже духовой инструмент, слабоумный младший братец органа. Но звучит он совершенно иначе. Я, конечно, не музыкант, но до сих пор был уверен, что баян от органа худо-бедно отличить способен. И вдруг так облажался. Надо же.
Только когда музыка умолкла, и вместо тишины на нас обрушился громкий треск, в котором я не без труда опознал шум аплодисментов, до меня, наконец, дошло. Боже милостивый, да это же просто запись. Чемодан тут не для красоты стоит. В нем спрятано воспроизводящее устройство. То есть, я все-таки не рехнулся, это была самая настоящая органная музыка – в записи. А хитрый дед просто исполнял пантомиму, его баян и звука не издал. Смешно, кто бы спорил.
Я заметил, что старик на меня смотрит, внимательно и лукаво – дескать, как я тебя провел? Я невольно улыбнулся, укоризненно покачал головой и погрозил ему пальцем – обманывать нехорошо! Баянист скорчил постную физиономию кающегося грешника, смиренно кивнул, но тут же ухмыльнулся и выразительно ткнул указующим перстом в направлении емкости для денег. Дескать, сперва заплати за развлечение, а потом привередничай. И тогда я, может быть, снова сделаю вид, будто мне стало стыдно.
Я счел требование вполне справедливым, выгреб из кармана несколько полуфранков, присоединил их к даяниям своих многочисленых предшествеников, отошел в сторону, присел на каменный парапет набережной и приготовился слушать дальше. Бах есть Бах, и я не готов добровольно покинуть место, где звучит его музыка, пусть даже и в записи, не так уж я прихотлив.
Старый обманщик проводил меня взглядом, увидел, что я остаюсь, одобрительно кивнул и взялся за баян. Мир снова заполнился звуками органа, столь чистыми и глубокими, каких не во всяком концертном зале и далеко не с любымнастоящим инструментом добьешься. Я снова подумал: что-то тут не так, а потом перестал думать, потому что музыка Баха словно бы специально создана для того, чтобы приводить мой разум в полную негодность, просто в некоторых особых случаях это происходит в первое же мгновение, а во всех прочих – секунду спустя.
Наконец музыка умолкла. Пока я приходил в сознание и разминал затекшие от долгого сидения ноги, публика как-то незаметно разбрелась, а баянист начал собираться. Пересыпал монеты в поясную сумку и принялся закрывать чемодан.
Убедившись, что концерт окончен, я стал обдумывать свой дальнейший маршрут, и тут старик вдруг обернулся ко мне и сделал столь недвусмысленный жест: «стой, где стоишь», – что я зачем-то кивнул, нерешительно переступил с ноги на ногу, но никуда не пошел, а принялся смотреть, как он складывает стул. Лениво размышлял, как же бедняга все это потащит, и не следует ли предложить ему помощь. С другой стороны, справлялся же он как-то без меня вчера, позавчера, и вообще всю жизнь.
Он и сейчас превосходно справился. Передвинул перевязь так, что баян повис на спине, как нелепый громоздкий рюкзак, одной рукой взял сложенный стул, другой чемодан, но тут, похоже, снова вспомнил обо мне, оглянулся, подмигнул, как сообщнику, поставил чемодан на землю, и поманил меня, как любопытного, но оробевшего перед незнакомцем ребенка.
Я послушно встал и пошел к нему. Когда я приблизился на расстояние вытянутой руки и остановился, потому что куда уж ближе, старик одобрительно улыбнулся, зачем-то приложил палец к губам – дескать, помалкивай – воздел руку к небу и энергично ею взмахнул. Я помню, успел снисходительно подумать, что такой залихватский бессмысленный жест подошел бы провинциальному фокуснику, но тут раздались звуки органа, первые аккордытой самой фуги, которая не то До, не то Ре, а может и вовсе Соль мажор, и я застыл, как громом пораженный. Поначалу, помню, пытался сообразить, откуда она звучит теперь, когда чемодан закрыт, а потом уже ни о чем не думал, только стоял и слушал, только был.
Старый баянист, тем временем, подхватил свой чемодан и с прытью, какой не ожидаешь от человека его возраста и комплекции, широкими, как прыжки, шагами удалился в сторону моста. Но музыка не становилась тише, и когда старик совсем скрылся из вида, она продолжала литься, пока не добралась до коды.
Я еще какое-то время стоял у Васеркирхе, счастливый и опустошенный, вспоминая, кто я такой, откуда здесь взялся, и что, собственно, означает «здесь», а потом, наконец, вспомнил, развернулся и улетел.
γ
«Взрослые жители города Динь-ле-Бен носят каменные плащи, а дети ходят по улицам в позолоченных масках, без которых им не позволено показываться на людях».
Это я когда-то написал. Нет ничего лучше, чем говорить и писать только правду, важно лишь отделять наиболее эффектные ее составляющие от прочих и преподносить их, как обычное информационное сообщение – сухо, лаконично, без словесных завитушек и прочих кондитерских излишеств.
Вот и тут я ничего не выдумал, просто изложил факты, другое дело, что не все. Опустил некоторые малозначительные подробности.
Если обстоятельно, ничего не упуская, рассказать, как было дело, большая часть очарования пропадет. Но тут уж ничего не поделаешь.
Я впервые попал в Динь-ле-Бен лет семь назад, совершенно случайно и находился там максимум полчаса, да и то только потому, что на окраине этого городка приятелю, с которым мы колесили по Провансу, позвонил кто-то, как ему тогда казалось, чрезвычайно важный; теперь-то он вспомнить не может, что это был за звонок, вот что творит с нами время.
Но тогда он спешно припарковался у тротуара и попросил меня сходить за водой – дескать, наши запасы подошли к концу. Я не стал напоминать, что в багажнике еще как минимум две бутылки, ясно же, что человек хочет остаться наедине со своим невидимым собеседником, я и сам не люблю разговаривать по телефону в чужом присутствии – при том, что секретов у меня много меньше, чем полагается на среднестатистическую заблудшую душу населения; строго говоря, их вообще нет.
В общем, я пошел за водой, радуясь возможности размять ноги. Почти сразу приметил в конце квартала непрезентабельный бар с белыми пластиковыми столами у входа и двинул туда в надежде получить не только воду, но и чашку кофе.
Дело близилось к вечеру, на улицах было пусто, как будто карантин объявили, и тут из-за угла вышел человек, небрежно набросивший на плечи кусок плотной клеенки, имитирующей каменную кладку – такой иногда оклеивают стены бедняки с неутолимой тягой к прекрасному. Во всех остальных отношениях прохожий был совершенно зауряден – мужчина средних лет, с серьезным и сосредоточенным носатым лицом. Я бы его, наверное, и сейчас узнал, так он меня впечатлил.
Я долго глядел вслед этому стихийному кутюрье, сожалея об оставленном в машине фотоаппарате, а налюбовавшись, нырнул в бар, купил четыре бутылки минеральной воды, залпом проглотил горький эспрессо, вышел на улицу и увидел, что навстречу мне шагает симпатичное семейство: молодая пара с дочкой лет пяти и совсем мелким мальчишкой. Родители в неброской повседневной одежде, зато потомство в карнавальных масках – видимо возвращаются с какого-нибудь детского праздника. На девице нечто золотисто-зеленое с кошачьими ушами и разноцветными перьями, а на ее братишке – классическая венецианская «баута»[10], совершенно не подходящая к его крошечным размерам, тоже обильно позолоченная.
Я внутренне взвыл от восторга. Вернулся в машину, где уже нетерпеливо подпрыгивал вволю наговорившийся приятель, сказал небрежно: «Ну и городок! Взрослые здесь ходят в каменных плащах, а дети носят золоченые маски», – и вдруг понял, что именно так и надо рассказывать о городах: правду и только правду, просто не всю, а только самую интересную ее часть.
Я даже книгу такую собирался написать – своего рода путеводитель по Европе, перечень городов с короткими, в две-три строчки описаниями тамошних нравов и обычаев. Но, конечно, забросил, да и кому нужна эта книга. Ясно же, что ни один издатель даже стопкой газетной бумаги ради такой авантюры не рискнет, а по мне, если уж делать, то качественную, дорогую, с цветными картинками на каждой странице, как, скажем, издали «Книгу чудес» Марко Поло, потому что я, в сущности, и есть новый Марко Поло, не единственный, один из многих, очередной странник по Terra Incognita, очарованный разнообразием мира. А вы – в смысле, все остальное человечество, включая моих родных и друзей – псиглавцы, заклинатели рыб и люди с ногами-зонтиками, чьим причудливым повадкам я никогда не перестану удивляться.
Короче говоря, я забил на эту затею. А какое-то время спустя, нашел в компьютере файл со старыми записями, перечитал, порадовался, выложил их в своем блоге, заново вдохновившись, написал еще дюжину, и снова благополучно забыл о несостоявшемся проекте. Время от времени мне о нем, конечно, напоминают. Очень забавно бывает, когда кто-нибудь из новых знакомых принимается рассказывать: прикинь, на юге Франции есть городок, где детям не разрешают выходить на улицу без масок. И в школу в масках ходят, и на спорт, и мусор выносят, то есть, вообще только на ночь их снимают, да и то не факт. Вроде, в этом городке раньше особо злобные ведьмы жили, а может, и до сих пор живут, народ боится, что младенцев сглазят, вот и придумали им лица закрывать, авось поможет. Двадцать первый век на дворе, а они…
Меня всегда поражала в ближних способность находить правдоподобные объяснения самым нелепым фактам. Это надо же – ведьм каких-то приплели, хоть стой, хоть падай. А все равно приятно наблюдать, как твоя дурацкая байка вдруг обретает историческую подоплеку, фольклорную глубину и документальную достоверность, превращается в легенду, которая, на мой взгляд, и есть наивысшая стадия развития правды.