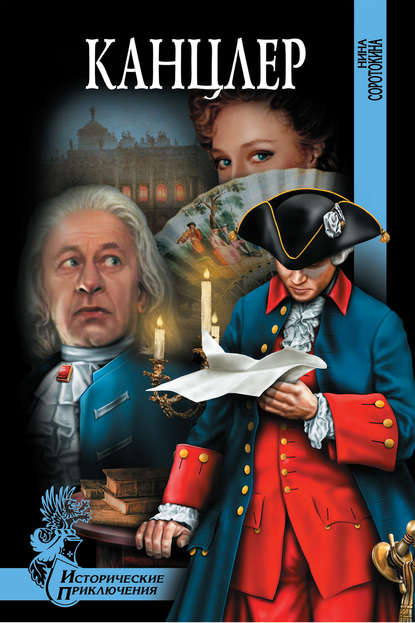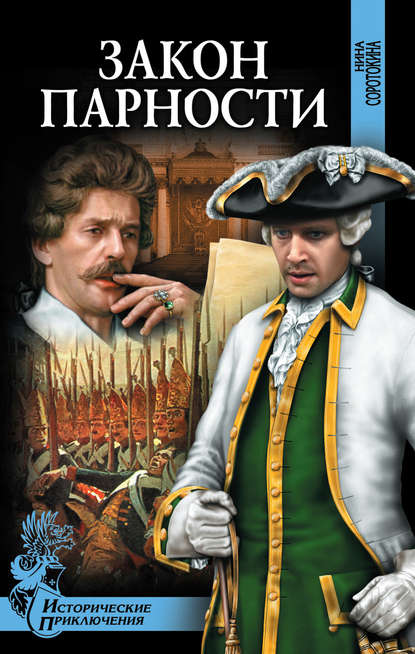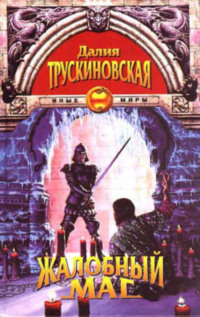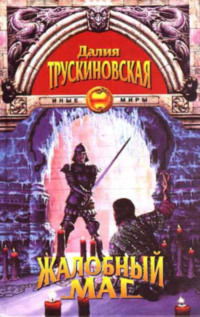Полная версия
Окаянная сила
Горница была убрана богато – большая высокая печь так и сверкала сине-зелеными кафлями, а по каждой кафлине – то травка с цветом, то птица Сирин. Второе, что заметила Аленка, выпроставшись из-под шубы, так это шитую цветами и птицами скатерть на ореховом столе.
В святом углу размещался немалый иконостас, горели лампадки перед образами, а сама горница легкой синеватой дымкой душистого ладана была затянута – видно, в доме служили молебен. Вдоль стен, меж лавками под суконными полавочниками, стояли богатые поставцы с серебряной и позолоченной посудой. В углах высились сундуки, обитые прорезным железом. Все было дорого, но в меру, и Аленка решила, что ее спасительница скорее всего из богатых купчих. Не иначе, вдова – уж больно вольно живет для мужней жены: всю ночь где-то проездила, а никому отчета не дает.
Любовь Иннокентьевна тяжело опустилась на скамью.
– Садись, девка, – вздохнула женщина. – Что же с тобой делать-то, послушание ты мое?
– Отправь меня в какую ни на есть обитель, матушка Любовь Иннокентьевна, – попросила Аленка. – Век буду за тебя Бога молить!
– А своей ли волей ты в обитель идешь? – усомнилась купчиха. – Не спокаешься?
– Не спокаюсь. Я и раньше того хотела.
Любовь Иннокентьевна задумалась.
– Бога за меня молить – это ты ладно надумала. Только вот что, девка… Кто ты такова, как звать тебя – знать не знаю, ведать не ведаю, и ни к чему мне это. Но если я тебя в отдаленную обитель отправлю – все одно придется тебе там назваться. А если тебя искать станут, то ведь не только на Москве – по обителям тоже пошлют спросить…
Дверь в горницу отворилась, на пороге выросла старуха и, завидев Любовь Иннокентьевну, кинулась к ней, всплеснув широкими рукавами подбитого мехом лазоревого летника:
– Матушка, кончается! Кончается светик наш Васенька!
– Не гомони! – оборвала ее Любовь Иннокентьевна. И тяжелым шагом двинулась в спаленку.
Аленка поспешила следом. Старуха, шарахнувшись, привалилась к стенке за поставцом и мелко закрестилась.
Купчиха присела на край большой кровати, сдвинув локтем высоко постланные перинки, и позвала:
– Васенька, а, Васенька?.. – Из осененной пологом темной глубины никто не ответил. – Здесь останусь, – изрекла устало Любовь Иннокентьевна. – Более Бога молить, чем этой ночью, уже сил нет…
– Я с тобой, матушка Любовь Иннокентьевна, – и Аленка без приглашения села на приступочек внизу постели, сжалась у ног суровой купчихи, как кошка нашкодившая, – лишь бы не прогнали.
– Ну что же… – бормотала та отрешенно. – Соборовали тебя, Васенька… Глухую исповедь от тебя приняли… Мирром помазали… Все сделали, что надобно, Васенька… Более сделать ничего уж не могу… Прости, коли что не так… и я тебя во всем прощаю… по-христиански… – Отыскав в одеялах руку умирающего, выпростала ее, медленно начала гладить. – Жениться ты собирался, Васенька… Не довелось мне женку твою на пороге встречать… А уж как бы я детушек твоих баловала… – Она помолчала. Вдруг вспомнив про Аленку, молвила: – Слышь, девка. Надумала я. Отвезут тебя в Успенский девичий монастырь, что в Переяславском уезде, в Александровской Слободе. Игуменья там, мать Леонида, родня мне. Скажешься купецкой вдовой. Что, мол, привез тебя из Тамбова на Москву племянник мой, Василий Калашников, тайно, потому как пошла-де ты за него без родительского благословеньица. Потом Васенька за сыпным товаром ездил, в драку угодил и от раны скончался… И ты после него более замуж не пойдешь, а грех перед родителями замаливать будешь. Запомнила?
– Да, матушка Любовь Иннокентьевна.
– Будешь мне за Васеньку молельщица, за его грешную душеньку. Обещаешь?
Аленка нашарила рукой сквозь сорочку крест.
– На кресте слово даю – сколько жива, буду за упокой его души молиться.
– Поминанье Васеньке – на священномученика Василия, пресвитера Анкирского, что накануне шестой седмицы Великого поста. Запомнила?
– Запомнила. И за тебя век Бога молить буду.
– За него! А теперь поди, поди… А я с ним побуду…
Аленка вышла в горницу, где старательно крестилась под образами все та же старуха, села на лавку. Что еще за Успенская обитель? Каково там? И как же Дунюшке о себе весть подать?..
Просидела так довольно долго. Заслышав тяжелые шаги Любови Иннокентьевны, встала.
– Не пойму, – сказала, входя, купчиха. – Как будто спит… Григорьевна, кликни Настасью. А ты, девка, туда стань. Вот тебе черный плат, покройся.
Старуха бесшумно убралась, а Аленка, накинув плат на голову, спряталась за поставцом.
Вошла одна из тех пожилых женщин, что встретили их на крыльце.
– Прикажи Епишке возок закладывать, чтобы до света в дорогу тронулся, – велела Иннокентьевна. – Я надумала в Успенскую обитель крупы и муки послать. Пусть мать Леонида за Васеньку тоже молится. И зашел бы Епишка ко мне – я ему еще приказанье дам.
– Что же возок, а не телегу, матушка?
– А то, что я с ним девку туда отправлю. Мне игуменья Александра послушанье дала – девку отвезти в Успенскую обитель, – не солгав, кратко объяснила купчиха. – Не хочу, чтобы ее на телеге открыто везли. Постриг, чай, принимать собралась.
Но когда Епишка, высокий крепкий мужик с бородищей во всю грудь, с поклоном предстал перед ней, приказ ему был иной:
– Вот ее в возок усадишь и тайно со двора свезешь. Ферезея от покойницы Веры осталась, я знаю. Ей дашь, тебе потом заплачу. Будешь через заставы провозить – скажи, племянница. Довезешь с мешками до Александровской Слободы, до Успенской обители.
– Кто ж она такова? – спросил Епишка.
– Про то тебе знать незачем. Возьми в клети по мешку муки ржаной и ячной, да овса два мешка. И пшена – это будет пятый. Скажешь игуменье, матушке Леониде: мол, купецкая вдова Любовь Иннокентьевна шлет, а она бы приняла чтоб девку… Ну, езжай с богом, до светла с Москвы должен съехать. – Купчиха перекрестила Епишку, затем Алену и, не сказав более ни слова, ушла к Васеньке.
– Мудрит хозяйка, – обронил Епишка. – Ну пойдем, что ли.
Видно, велика ростом была покойница Вера – ее широкая ферезея волоклась за Аленкой, как мантия, рукава по полу мели. Но дорожная епанча и не может быть короткой – должна сидящему ноги окутывать.
И еще до рассвета, как только стали подымать решетки, которыми на ночь улицы перекрывали, выехала Аленка из Москвы. Дал ей припасливый Епишка мешок с хлебом, луком и пирогами, дал баклажку с яблочным взваром, дал еще подовый пирог с сельдями в холстине, и все это легло ей на колени так, что и не повернуться. Однако Аленка после двух диковинных ночей, последняя из которых выдалась и вовсе бессонная, заснула среди мешков с мукой и крупой мертвым сном. И что уж там врал Епишка, выезжая на Стромынку, так и не узнала.
Когда разбудил он девушку, дорога шла уже лесом. Поскольку в лесах пошаливали, несколько подвод и возков сбились для безопасности вместе.
Трясясь меж пыльных мешков, Аленка попыталась обдумать свое положение.
За Дуней присматривают, но Наталья Осиповна, не дождавшись вестей от Аленки, скорее всего попробует вызнать – не появлялась ли пропажа в лопухинском доме. Потом, возможно, пошлет спросить в Моисеевской обители. И, окончательно потеряв Аленкин след, решит, что девка по неопытности дала себя схватить с поличным, сидит теперь где-нибудь в яме, откуда и будет добыта в нужный час для посрамления лопухинского рода… Как же исхитриться послать о себе весточку?
Плохо все вышло, уж так плохо, что дале некуда. И одна лишь во всем том была утеха – хоть и не отпущенная из Светлицы добром, а все же попадала Аленка в обитель и принимала постриг. За что великая благодарность купчихе Калашниковой…
И тут же вспомнила Аленка про Васеньку. Ей ведь велено было молиться за упокой, но что, ежели он жив еще – тогда как?
Аленка неожиданно для себя сползла с сиденья, стала коленями на рогожку, покрывающую пол возка, и взмолилась-вскрикнула:
– Господи, спаси Васеньку!
Так же вскрикивала, молясь, блаженненькая Марфушка, всю душу вкладывая в голос. Может, за то ей и бывали вещие видения? Аленка обмерла, как бы издалека услышав радостный вопль: «Ликуй, Исайя! Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!..» Вот и сбылось. Не венчавшись, оказалась купецкой вдовой…
Осознав это, Аленка впервые за двадцать два года задумалась: а не лишается ли она чего значительного, принимая постриг и отказываясь от супружества? Раньше-то постриг лишь вдали маячил, а теперь-то – вот он, с каждым часочком все ближе. Да еще впопыхах, да к чужим старицам, да под чужим именем…
Нет, быть женой и матерью она покамест не желала. Иное дело – тридцатницей! Это – честь, это – деньги. И даже невинного баловства – девичьих игр с поцелуями – Аленке пока еще не хотелось. Не проснулось еще в ней волненье, как в Дунюшке за два года до царицына сватовства…
Но не вышло у Аленки поразмыслить над уже невозможным супружеством: понесся вдруг возок вперед так, что держись! А вдогонку ему полетел отчаянный звенящий свист. И крики:
– Стой, стой! Служба государева!
Аленка ахнула: стрельцы! Выследили, нагнали, схватят, обратно в Москву повезут! На дыбу! Под кнут!..
– Спасе! – взмолилась она, обливаясь слезами.
А тем временем конники согнали все возки и телеги к поваленному поперек узкой дороги дереву и запричитали, завопили кучера.
Дверь возка распахнулась.
– Баба! – обрадовался темноликий мужик. – А ну, вылезай! Кто такова?
– Купецкая вдова я! Калашниковых! – крикнула Аленка, не заметив с перепугу, что на мужике – не стрелецкий кафтан, а какая-то подпоясанная чуга без всяких украшений.
– Купчиха? Федька! Тут тебе купчиха!
Подоспел и другой мужик, долговязый, вдвоем вытащили Аленку из возка, поставили перед собой.
Глянула Аленка на второго – языка лишилась: рожа страшная, борода кудлатая во все стороны от самых глаз растет, и скалится, нечистая сила, злобно!
– А коли купчиха – пошто на мешках едешь?
– В обитель я! В Успенскую! – ничего не соображая, твердила Аленка. – Вдова я! Постриг еду принимать! Отпустите меня!..
– Федька, забирай вдову купецкую! Сжалился над тобой Господь, послал и тебе сласть!
– Дядя Епифан! – заверещала Аленка, увлекаемая с дороги в глубь леса. – Дя-дя-а!..
Но не до Аленки, видать, было кучеру Епишке. Творилось невообразимое – с телег снимали увязанную кладь, кто-то, защищая, лез в драку, и, похоже, взяли уже кого-то на нож – такой дикий крик перекрыл шум схватки!..
А Аленка все еще не соображала, что догнали ее не стрельцы, а те портные мастера, что на больших дорогах шьют вязовыми булавами.
– Да не вопи ты, дура, – сказал Федька, – не убудет с тебя! Сейчас вот и поглядим, что ты за купчиха…
С тем и завалил.
Влажные кривые кочки подались под Аленкой, тело наполовину в них вмялось – Федька, удерживая за плечи, не давал приподняться, и показалось вдруг девушке, что вот сейчас и уйдет ее головушка в болото, и сомкнется оно над хватающим последний воздух ртом…
Она вцепилась было зубами в грязную руку, да попала не на кожу – на засаленный рукав.
– Ого! – Федька стряхнул ее, как малого кутенка. – Горяча ты, матушка! Это любо! Ну так вот те мой селезень!.. – Он распахнул на ней ферезею, ухватился лапищей за грудь. – Ах-х!.. Ха-а!..
Не человек – чудище дикое взгромоздилось на девушку, ахая от возбуждения. Жесткая борода оцарапала лицо и шею, Аленка высвободила руки, вцепилась в нечесаные космы Федьки, но оторвать его от себя не смогла.
– Ради Христа… Не погуби!..
– Невелик грех, замолишь!
– Феденька, батюшка мой… – Аленка уж не соображала, что лопочет. – Отпусти, не губи!..
Вдруг щекам сделалось жарко, голова поехала-поплыла, да вверх дном и перевернулась…
Шум пропал.
И все пропало.
…Очнулась Алена оттого, что ее сильно трясли за плечи.
– О-ох… – простонала она, не открывая глаз и не желая возвращаться из небытия.
Однако слух уже проснулся и помимо воли принимал звучащие вперебой слова.
– Так она, выходит, девка была?
– Дурак же ты, Федька!
– Гляди, и коса – девичья…
– У людей дураки – вишь каки, а у нас дураки – вона каки!
– Бог дает – и дурак берет!
– Так кричала ж, что купецкая вдова! – Алена узнала этот обиженный басок.
– Вдова, вдова… Ты на нее глянь – какая она тебе купецкая вдова? Заморыш!
– Так сами ж орали – вот те, Федька, купчиха, давно поджидал!
– Вот те и купчиха!..
– Впредь те, бабушка, наука – не ходи замуж за внука!
Грянул хохот, но сразу смолк.
– Пес! – услышала Алена резкое, удару плети подобное словцо. По общему покорному молчанию поняла – пришел хозяин. Атаман.
Она приподнялась, опершись на локоть, открыла глаза и увидела стоявшего прямо перед ней мужика средних лет – чернобородого, в меховом колпаке и распахнутой короткой шубе. Стоял он, росту вроде и среднего, руки в боки, глаза в потолоки, выпрямившись да вытянувшись, и потому смотрелся вровень с долговязым понурившимся Федькой.
– Девство рушить – последнее дело, – произнес чернобородый. – Баба – у той не убудет. А девок обижать – грех, Бог накажет. Говорила она тебе, что девка?
– Да мало ли что она говорила, я и не слышал… – признался сдуру Федька.
– Когда дурак умен бывает? – спросил атаман, оборотясь к сгрудившейся за его спиной ватаге. И сам же себе ответил: – Когда молчит! Ты, Федя, у нас не просто дурак, а дурак впритруску!
– Да ладно тебе, Баловень, – обратился к остроумцу мужик постарше. – Что делать-то с девкой? Отпускать-то – никак…
– Вот то-то и оно…
Тут вдруг Федьке взбрело на ум, что есть способ поправить дело.
– Дядька Баловень! Я на ней женюсь!
– Ого! – Столь отчаянное решение явно изумило Баловня до чрезвычайности.
И прочие тоже остолбенели.
– Жених, блудлива мать… – заметил кто-то незримый.
Алена села и одернула подол.
– Очухалась, дура? – Оказалось, что все это время возле нее стоял еще один налетчик, он-то и протянул руку: – Подымайся! Кланяйся атаману.
Ноги Алену не держали – едва ощутив ступнями землю, рухнула она перед Баловнем на коленки.
– Христа ради, не погуби!..
– Да уж погубил тебя наш дурачина, – заметил Баловень. – Детинушка с оглоблю вырос, а ума не вынес!
– Да женюсь я! – с пронимающим душу отчаянием завопил вдруг Федька. – Сказал же – женюсь! Христом-Богом!.. Все слышали? Же-нюсь!
8
– Возьмешь высевок шесть щепоток, – озадаченно повторила Алена, – размочишь в теплой водице. Размочила, ну… Мерку муки заваришь крутым кипятком, истолчешь пестом. Истолкла, ну… Пусть остынет, чтобы палец не жгло. Не жгло… Смешаешь с размоченными высевками. Выйдет опара. Поставишь всходить…
Все это она по совету бабки Голотурихи исправно проделала, но что-то, видно, вылетело-таки из головы, и печево снова не удалось. Хотя Алена в отчаянии не только хлебные ковриги, но и все углы в избе закрестила.
Ни у Лопухиных, ни тем более в кремлевских теремах заниматься стряпней ей не доводилось. На то есть Хлебенный и Сытный дворы, поварни. Дунюшку – ту учили хозяйству, потому как боярыне надлежит многое знать и слуг учить. А Аленка что? Рукодельница, комнатная девка, молитвенница. У нее и душа-то не лежала к бабьим делам.
Вот и наказал Бог – поместил на болотном острове, куда пробраться можно даже не тропкой – поди-ка проложи тропку по топкому месту! – а по приметам: то правь путь на раздвоенное дерево, то – на разбитую громом ель. Жили там бабы, коим из-за их мужиков оставаться в селах сделалось опасно: жена Баловня, Баловниха, другие жены с детьми и неведомо чья бабка Голотуриха. Поставили им на островке избы, принесли на плечах запасы крупы и муки, навещали нечасто. Сидят в безопасном месте – и ладно, у мужиков руки развязаны.
Как вел Алену туда Федька – думала, не дойдет по сырому, упругому мху. Увязнуть в нем не увязнешь, а шагать тяжко. Версты три Алена еще держалась, а потом норовила на каждую кочку присесть. Ноги промочила, пóлы длинной ферезеи и края рукавов набрякли болотной водой – прямо тебе вериги, как у пустынника… Долговязый Федька шагал впереди, оборачивался, удивлялся: как это баба может от него отставать? Он вон с мешком за плечами, а она-то – с пустыми руками…
Весь день так-то шли, вечером добрались до жилья. Федька устроил Алену в крошечной пустой избушке (прошлой зимой в ней жена Агафона Десятого с двумя детьми до смерти угорела) и повалился на пол, заснул – не добудишься. Утром же ушел, постылый, на прощание снова жениться пообещав.
Не думала Алена, что доведется ей жить в черной избе с холодными сенцами. Сейчас, пока осеннее тепло держится, еще бы ладно, а что зимой будет? При мысли о зиме она принималась бормотать молитвы и креститься на единственный образ в углу, до такой меры почерневший, что и лика не разберешь.
Топила Алена не каждый день, ибо было это для нее мукой мученической. Дым из огромной черной печи шел в избу и ходил поверху, затем подымался под кровлю. Потолок и стены были сильно закопчены, воздух от дыма делался похож на банный.
– Бог в помощь! – загородив свет, на пороге выросла Баловниха, крупная плечистая баба. – Хлебы творишь? Ну-ка… – Она потыкала пальцем в округлую корку – как в каменную стенку. – Сколь долго мяла? – спросила она, вздохнув.
– Пока спина не взмокла, – честно отвечала Алена.
– Больно скоро она у тебя взмокла. Опять твой Федька ворчать станет: мол, сверху ножичком срежь, а в середке ложкой ешь… Ладно, покрой тряпицей, пусть отдыхают.
Вдвоем они перенесли все четыре ковриги на стол и покрыли их.
– Собирайся, купчиха, пойдем. Молочком сегодня разживешься, – пообещала Баловниха.
– Молочком? – Алена ушам не поверила. Коров на болотном острове покамест не завели.
– Постным молочком.
– Да у нас тут всякий день – постный, – сердито буркнула Алена, но уже протягивая руку к ферезее, висевшей на воткнутом меж бревен колышке.
Привела ее хмурая баба в свою избу, где уже сидели бабка Голотуриха, Ульяна с грудным дитятком на руках и Анютка, невенчанная жена кого-то из ватаги. На полу был разостлан большой плат, на нем горой – лесные орехи.
– Садись чистить, купчиха, – велела Баловниха. – Складывай ядрышки вон в тот горшочек, что у Ульяницы. – Сама же села на лавку, взяла на колени высокую мису и, с силой нажимая большой деревянной ложкой на стенки, принялась растирать в ней что-то густое.
Алена, сидя на полу, молча ударяла камушком по орехам, высвобождала ядра и кидала их в горшок. Тупая и непонятная то была работа.
– Ты и в роток закинь, не бойся! – ободрила ее Ульяна.
Бабка Голотуриха переместилась по лавке поближе к Алене.
– Отсыпь-ка орешков, – она протянула сложенные ладошки, а потом высыпала орехи на досточку, чтобы крошить ножом. – Вот мы их сейчас покрошим, водицей на ночь зальем, завтра будем растирать. А потом на ложку орехов девять ложек воды – и весь день настаивать и помешивать, да с молитовкой. Потом процедить – вот и выйдет молочко. Из мака так же молочко-то делают, пивала в пост маковое молочко?
Алена лишь вздохнула – и не такими лакомствами баловал мастериц Сытенный двор в Кремле…
– Нужно еще раз по орехи сходить, – сказала Баловниха. – Не то холода грянут – мы уж далеко не заберемся. Слышь, купчиха, когда пойдем – дашь мне свою ферезею, а я тебе – мужнин кожушок. Мне-то он короток, а тебе по болотам в ферезее все одно несподручно – подол по мокрети волочится.
Вошла Катерина, жена дяди Андрея, Баловнева помощника. Перекрестилась на образа, поклонилась бабке Голотурихе.
– Я за тобой, бабушка, Марьюшка плачет, унять не могу…
Бабка засобиралась, выспрашивая быстренько, с чего бы вдруг захворала годовалая доченька.
– Я тебе спозаранку в стенку стукну, – пообещала она Алене. – У тебя мешок невеликий есть, я знаю, и лукошко, ты их приготовь. Да на весь день хлебца возьми. Пойдем-то далеконько… Зато зимой беды знать не будем, с ореховым-то маслицем…
Алена снова вздохнула. Ее опойковые башмачки, в которых так ловко было бегать по теремным переходам, для хождения по болотам никак не годились. Нужны были хоть лапти с онучами. На онучи можно изодрать найденную в избушке грязную холстину. А лапотки кому плести – не Федьке же?
Своего насильника и жениха она за это время видела дважды. Получив, как видно, нагоняй от Баловня, он держался с Аленой тише воды ниже травы. Однажды только намекнул, что вдвоем-то лечь – теплее выйдет, но расхрабрившаяся Аленка так его шуганула – сама отваге своей подивилась.
– Да ну тя к шуту! – огрызнулся Федька. – Все одно ж повенчаемся! Вот санный путь станет – повезу тебя к батьке Пахомию, покамест мясоед.
Алена молила Бога, чтобы тепло подольше задержалось. И потому, что зимней одежонки не имела, и – из-за Федьки. Дождалась жениха! При одном взгляде на него, нескладного, кулачки сами собой сжимались. Бить бы его, месить, пока не поумнеет!
Такие лихие мысли прорезались в ней, когда она впервые своего незадачливого суженого при дневном свете увидала. Тут только догадалась неопытная в обращении с мужчинами Алена, что Федька еще очень молод, от силы ему девятнадцать. И среди налетчиков дядьки Баловня он – младший, потому и прохаживаются на его счет все кому не лень. Младший, бестолковый, одна только борода и есть – на двух бояр станет! Борода-то выросла, а ума не вынесла… Борода с ворота, а ума с прикалиток…
Одно было во всем этом благо – на болотном острове никакие стрельцы Алену не сыщут! Порой она даже задумывалась: а не спас ли ей жизнь Баловень со своими налетчиками?
Рано утром бабка Голотуриха торкнулась в стенку избенки. Алена наскоро сотворила молитву, обулась и, пытаясь на ходу угрызть свое вчерашнее неудачное печево, вышла наружу.
– Держи-ка, купчиха, – Баловниха протянула ей обещанный кожушок.
В кожушке поверх телогреи и впрямь было сподручнее, а Баловнихе Аленина ферезея оказалась в самый раз.
Пошли по орехи вчетвером: Баловниха, Катерина с десятилетней дочкой Дарьицей, Алена и бабка Голотуриха. Вела Баловниха – она знала, на что на болоте глядеть да где сворачивать. Бабка же по дороге толковала про всякие страсти, Христом-Богом упрашивая Дарьицу и Алену не отставать от старших, не терять их из виду…
9
Когда Алена тащила к мешку очередное лукошко с орехами, послышалось ей конское ржание. Видать, где-то поблизости пролегал наезженный путь. Она прикинула: в какой бы стороне?
Какое-то время Алена слышала лишь лесные шумы да шорохи, а потом вновь донеслось!
Тут у нее из головы напрочь вылетело, что надежнее всего – отсидеться на болотном острове, что в Москве показываться опасно, что, выберись она с болота, неизвестно даже, к кому идти, у кого помощи просить. Перекрестясь, поставила лукошко на землю и быстро пошла на звук.
Так уж вышло, что в настоящем лесу Алена оказалась впервые в жизни. И, не имея под ногами даже едва приметной тропы и вынужденная огибать каждое дерево и каждый куст, вскоре дала такого круга, что, как ни прислушивалась, ничего более расслышать не могла. Да еще и под ногами сделалось топко.
Испугавшись, Алена стала озираться. Обнаружила, что стоит в болотистой ложбине между взгорками. Впритык по склонам торчал еловый сухостой, но елки, толщиной с Аленино запястье, стояли до того часто, что протиснуться меж ними мог бы разве что заяц. Однако ни зайца, ни другой какой живности тут не было. Даже птицы не пели.
Алена попыталась тем же путем вернуться к бабам, но сухостой словно спрятал прореху меж стволами. Хуже того – показалось ей, что елки окружили ее еще теснее, словно загоняя в середину болота. Она перекрестилась и прошептала Иисусову молитву. Но не расступился сухостой, а, напротив, стволы как бы маревом вдруг подернулись и стали кривиться, корчиться, вихляться…
Алена вспомнила слова бабки Голотурихи про здешних болотных бесов, жилье коих в трясине было обведено кругом. И звалось оно – «место спорчено, болью скорчено». И попадал туда человек, ежели переступал сдуру незримый бесовский след. А следы у бесов – как бы через один, потому что они, попадав на землю с небес, переломали себе ноги и ковыляют с тех пор, хромая… Поняла теперь Алена, почему никто до сих пор не обнаружил болотного острова: тропка к нему, видать, вела самая что ни на есть узкая, а вокруг – сплошные бесовские следы!
Осознав это и узрев внутренним взором свою неминучую погибель в трясине, Алена завопила во весь голос, призывая то ли Матушку Пресвятую Богородицу, то ли свою родную мать, которой она и в глаза не видывала. Кинулась сгоряча на сухостой, попытавшись раздвинуть руками стволы, да какая сила может быть в руках комнатной малорослой девки? Только ладони ободрала понапрасну.
Встала тогда Алена перед непроглядной еловой стеной, перед стволами вихлявыми, прикрыла голову и лицо выставленным вперед локтем и, как телка перепуганная, всем телом бросилась на сухостой.