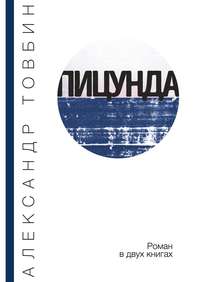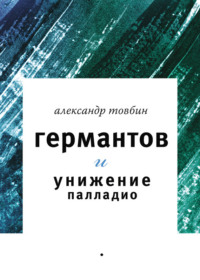Полная версия
Приключения сомнамбулы. Том 2
– Хоть бы ты поскорее визу получил и уехал, ну тебя! – передёрнулась Таточка.
– Я тебя и оттуда вольным словом достану, – захохотал Шанский. – воспряну, зажужжу с новыми силами.
– Ты, хоть и обессилевший, истязание под угощение нам устроил, – надулась Людочка, – прожужжал уши.
– Возьмём, – не обращая внимания на готовившего возражения Бызова, на недовольных Таточку с Людочкой, сладко заулыбался Милке, та тотчас выпятила бюст, – возьмём любовную сцену, без которой среднестатистическому роману не обойтись, это стало бы самоуничтожением жанра. Итак: поцелуй, объятия, постель, сулящая залёт в рай. Что ж, с богом – вечная тема. Но и сколь угодно оригинальное, и, замечу, трепетное её раскрытие питают опять-таки три, отнюдь не родниковых, источника.
Во-первых, – медленно загнул большой палец Шанский, – автор не может не заглянуть в личный опыт, чтобы провести селекцию чувств, ласк, вздохов и выкинуть интим на продажу. Во-вторых, автор ловит, развесив уши, откровения дон-жуанов, пусть и сверххвастливые, одновременно впитывает липким взором позы, повадки раскиданных по пляжу тел – изгиб бёдер, цвет кожи, очаровательная светлая полоска под лифчиком. В-третьих, эстет-бесстыдник вольно ли, невольно крадёт узоры любовного поведения в чужих книгах, серьёзных или фривольных фильмах – самое искреннее и самобытное письмо грешит плагиатом.
Согласились, три источника сомнительны, сочинитель, к ним припадавший, трижды безнравственен? Не спешите, однако, обличать высоколобого извращенца, который льнёт к разного рода замочным скважинам. Шокирующая изнанка замысла жива лишь пока автор заводит папки на персонажей, сортирует их пороки, предосудительные привычки… а водки? Бызов вылакал? Плесни сухого, виват!
– Преображение жизненной материи в текст до аморальности неприглядно, непригляден и ворох исчирканных бумажек-черновиков. Но как бы не откровенничал затем перебелённый текст, какие бы тёмные провалы мокрого космоса не высвечивал, художественным волшебством размываются терриконы шлаков, канализуется процедурная грязь – готовое произведение вызывает очистительный подъём чувств, словно недоступный снежный пик, засиявший вдруг в рвани туч. И сам греховный алхимик вмиг делает гигантский шаг к святости! – с шутовской гримаской Шанский зашептал, – конечно, речь об искусстве, а не книжонках в мягких обложках, отдушинах-компенсаторах грязных желаний, подавляемых в рутине машинизированного стерильного потребительства.
– Подозрительно просто, – разочарованно вздохнул Гоша.
– Ничего нет проще логики словоблудия! – рубанул ручищей Бызов, – очищающее волшебство… трюкач…
после заминки– Учтите, боли и наслаждения, красота и уродство, – не желал останавливаться, Шанский, – не существуют порознь, контрастно вспыхивают на фоне своих противоположностей, сцепленных в единстве жизни. Разве предчувствие родовых мук не растворено в стенаниях счастья, которые сопровождают зачатие? Так, про дьявольское и божественное в художнике сказал, о разделении труда между дьяволом и Богом в творческом процессе предупредил. А зачем гению злодейство, кто знает? – обвёл жертв своего неуёмного вдохновения искрившими, как бенгальские огни, глазами.
Но шумно отодвигали стулья, вставали; Художник постарался незаметно достать нитроглицерин.
– Я безо всяких мук рожала, удовольствие… – опомниться не успела, раскричавшуюся Варьку показывают!
– Мне кесарево грозило, но обошлось, в клинике «института Отта» старенькая акушерка, ученица знаменитого до войны профессора-армянина, фамилия вылетела из головы…
– О нём легенды слагали…
Жена Художника убирала тарелки.
углубляясь в картинуВечное настоящее? Или – прошлое, пожирающее настоящее с будущим? Изображение, почудилось, пришло в движение, медленно завращалось.
Что сообщало импульс вращению?
Художник, философствуя, упражнялся в смерти; останавливал время, поднимался над событиями, прозревал – переживал многократные умирания, воскрешения.
Вращение ускорялось.
Монументальность и быстротечность? Отвердели складки на штанах, майках. Разгорячённость застылых тел… возможно ли появление во дворе живой многофигурной скульптуры? Засвистит дворничиха, заголосит старуха в окне, выползет из-под арки фургон – привезли мебель. Символическое сшибалось с обыденным, в знакомом пространстве текло своё, неведомое время; громилы, их жертва жили, живут, будут жить в этом вымершем доме. Однако символика разлагала действие. Монументальная шайка не расправлялась с жертвой всерьёз, а изображала накал страстей, ненависть, слепую злобу. Событие вела композиция – загоняла в трафарет эмоций, обрамляла и – высвобождала, ломая раму, выводила куда-то далеко-далеко…
Скульптурная группа раскоряченных фигур, сцепленных в событие композицией, была подобна водовороту, из вертящейся воронки вырывался обезумевший взгляд бледного человека. Обезумевший? Нет, внезапно прозревший, прозревший среди слепцов, ослепших зеркал. Композиция, экспрессивная и неподвижная, как остановленный сон, рассказывала о метаморфозе прозрения! О самом миге метаморфозы: проникающий взгляд вдруг поборол растерянность, пробил защитные психические преграды. Что он увидел, понял? Соснин почувствовал – увидел что-то очень простое, что-то убийственно-простое, не оставляющее надежды. И – одновременно! – прозрение пережил Художник, смотрящий из творения своего – издали, из-под деревянного, с козырьком, забора? Да, иначе бы не сумел написать такое, да, да, ему всё открылось; Соснина медленно сносило невидимое течение, чувствовал – вот он у края воронки, вот его, окутанного тишиной, когда застольные голоса отключились, а сам он онемел, не смог бы позвать на помощь, всасывало в воронку на место жертвы. Голова кружилась, словно заглянул в пропасть, откуда на него смотрели сожалеющие, скорбные, прощающие глаза. И вот он там уже, в перевёрнутом крутящемся конусе, в вершине его, ставшей точечным дном, и оттуда, с освобождённого для него дна мощно вращающегося кратера, он сам уже смотрел, превозмогая головокружение, в огромное широкое небо. И кривые рваные края кратера шевелились, дёргались, и уже заслоняли небо, покачивались, клонясь ниже, ниже, коричневые ублюдки с набухшими мускулами, ядовитой слюной на синих губах. В сладостной истоме, ускоряя вращение, тянулись к Соснину грязные пальцы с чёрными обломанными ногтями, раздувались в оскаленных нависаниях лысые головы.
И вонючая жаба раздувалась сзади, близко-близко, почти касаясь лоснившейся, как присобранное голенище, гармошкой шеи в бородавках и крупных, с горошину, каплях пота. Вот-вот разорвут в клочья, и вот немые серые стены косо рванулись вверх, одинокое оконце блеснуло из-под карнизной тьмы – как последний осколок неба.
выбравшись из картины?В воронку, конечно, не затянуло – с бокалом в руке стоял в двух шагах от холста.
Но ужас близкой подвижной бездны не покидал, хотя не понимал где она, эта бездна, – вверху, внизу… да ещё сверление в затылке…
Не вытерпев, обернулся.
Зеркало на миг прозрело, чтобы увидеть его и показать ему, что…
Что?
Столкнулся в зеркале с растерянной физиономией, зажатой меж парами лысых глумливо-улыбчатых болванов, чьи бюсты вырастали из блеска льняной скатерти, врастали в фоновую иссине-чёрную ночь, но конвульсивно дёрнулся Соснин не потому, что испугался новых гнусностей старых знакомцев, а потому, наверное, что две картины образовали гнетущую запредельность: его знобило в зеркале, справа-слева – торчали мертвенно-бледные болваны, над головой зависли булыжники кулаков… из глубины зеркала опять подмигнул детина, опять расстегнул в ухмылке молнию рта.
И – исчез! Зеркало в латунной рамке вновь опустело; ослепший, но зачем-то пристально всматривающийся прямоугольный глаз.
Зачем видеть, если не отражать? Ах да, такое зеркало, такой глаз, смотрящиеся в себя, полны отложенных отражений.
Ждут своего часа?
а картина не отпускаетПока суть да дело, воронка смещалась в провал меж стенами, закручивалась по часовой стрелке энергией угрожающих тяжёлых ударов.
Однако вращению мешал мальчик в линялой розовой майке.
Худенький, гибкий, бежал против часовой стрелки, описывая событие по кругу, притягиваясь к нему лишь любопытством, инстинктом стаи. По силам ли мальчику остановить дьявольское вращение, повернуть вспять? У него, удалённого от центра круга, длинный рычаг, почему бы не повернуть? Разве Художник не тайный романтик, грезящий тем, что, дописав картину, изменит заведённый порядок к лучшему?
Но почему у мальчика такое лицо? Неужто и у него вспухнет мускулатура, сплющится нос? Точно! – оболванили, остригли наголо, потом облысеет: у него их гены.
Сцепленные композицией, закрученные жестоким танцем фигуры медленно сносило течение времени.
И засасывала воронка, над Сосниным всплывали злобные пустые глаза. И сдавливали раздутые, будто пневматические подушки, плечи; с ленцой приподнялась желеобразная голова, к горлу потянулись кривые пальцы-щупальца с шевелившимися на ветру волосками, задралась пропотевшая буро-зелёная майка, оголив желтоватую немытую кожу.
Головчинер недоверчиво повернулся к картине, смотрел, поглаживая пальцем ямку на подбородке.
Шанский перешучивался с Художником.
Людочка подмазывала губы перламутровой помадой.
Милка напевно каялась, что в детстве взахлёб любила праздничные столпотворения и демонстрации, страстные колыхания тёмных людских колонн с бумажными цветами, красными бантами и разноцветными воздушными шарами, шумное, радостное, с перебежками, вышагиванье плечом к плечу под духовую музыку… Продолжая озирать холст, Головчинер машинально привстал:
О тополиный пух и меди тяжкий взмах!Ведь детство – это слух и зренье, а не страх…Снова принесли чай, Соснин узнал его.
Он засопел – одутловатый, с никелевой фиксой в вонючей пещере рта подкараулил во дворе, между поленницами, вырвал новенький, только подаренный отцом мяч и, прижав к животу добычу, шумно затопал короткими сильными ногами в тяжеленных ботинках, рубашка в короткой жаркой схватке выбилась из-под широкого ремня с бляхой, бок оголился. Когда Соснин с расквашенным носом выскочил, прихрамывая, из подворотни, Доброчестнов-младший огибал круг чугунных тюбингов заброшенной довоенной шахты метро – обогнул, поставил мяч на булыжную мостовую. Поплевав на руки, как Лёха Иванов, издевательски медленно пятился, пока не упёрся задом в тюбинг, наконец – всего в трёх шагах! – разбежался, носком ботинка, пыром, выбил мяч с сиплым победным воплем шпане, которая поджидала на изломе Большой Московской, у крохотной булочной, что располагалась напротив смятого угла женской трёхсотой школы, взиравшей многоглазьем окон на позор оцепеневшего Соснина; расхристанный грабитель, оскальзываясь на булыжниках, догонял ватагу сообщников, они, поймав мяч, с разбойным свистом уже бросились проходными дворами на Загородный, чтобы на ходу запрыгнуть в трамвай, нырнул за ними во двор и Вовка, во двор, где вскоре его зарежут, и… Давние дворовые битвы, поражения пронеслись кривой рваной лентой, наново оглушив тупою несправедливостью, оцарапав садизмом; детство – копилка невысказанных обид, их не высказать за целую жизнь.
и не отпускают недоуменияА собака лает, лает.
Всё медленнее бежит, каменея, мальчик.
Закатное солнце румянит глухие стены вдали.
И – пересекают двор ступени, зализанные лунными бликами. Во дворе – ступенчатый подиум? Ах да, представление, шарады, парад культуристов. Но что всё-таки поделывает Художник в глубине пространства тревоги, там, под козырьком дощатого забора? Спокойно ждёт неминуемой свары истолкователей? Или, глядя оттуда, видит что-то, что его поразило, а для каждого из нас, поглощённого экзистенциальной драмой, которая длится по эту сторону холста, остаётся неведомым?
А девочка?
Да-да, слева бежит против часовой стрелки мальчик, а справа замерла девочка, как занесло её в пролом у тёмных кирпичных стен? – чулочки в рубчик, фартучек, белый, закруглённый у шеи отложной воротничок, в пухлой ручке – афишка; «Срывание одежд» – можно, присмотревшись, прочесть на ней. Творившееся в картине девочку не задевало: она не замечала громил, не боялась, что ненароком её раздавят.
Напыжившиеся громилы не касались асфальта, парили. И почему фигуры – босые? Будто с анатомического плаката лодыжки, натянутые сухожилия, рельефные пальцы и лепные грязные пятки.
Громилы парят, нанося удары; и жертва парит…
Срывание белых одежд? Нет, несчастного выволокли во двор, однако не просторный хитон полощется на сквозняке из подворотни, не ночная рубашка и не простыня, куда там! – струятся складки, точно кишки пустили, поток серебристо-голубых кишок, но это – ткань, если расправить складки, получится бескрайний саван, на всех хватит. Тайного сдвига не отыскать. Явного, включающего воображение, как будто нет, а оно включено; нет подделки под жизнь – она кипит. Дерзкое композиционное напряжение и – сосредоточенность, необъяснимость внутреннего покоя, которым дышит картина.
Слева – мальчик, одолевающий напор времени. Справа – пигалица в чулочках, фартучке. Поодаль, под козырьком забора – Художник. И свечение за головой мальчика, в арке подворотни – влекущие палисадники с цветниками, радующие глаз домики под черепицей, цепочкой протянувшиеся вдоль прелестной зелёной улочки. А справа – кучи битого кирпича, стены, облезлые стены, тёмные, неприветливые, как прибежища зла… того и гляди, навалятся, пырнут ножом.
Соснину почудились прерывистое дыхание, всхлипывания, слабый стон и шелест одежд… нет, расправа творилась беззвучно, только лай, лай.
Странно.
И натюрморт с геранью и сочными овощами-фруктами, виртуозно совмещённый с пейзажем и интерьером, – окно слева, распахнутое в солнечный сад, а справа, за порогом двери, – затемнённая анфилада, которая сквозит беспокойством. И рядышком, на другой картине, опять-таки справа – мрак анфилады, населённой зловеще копошащимися телами, а слева, у мечтательного лика возлежащей, как ренессансная Венера, рыжеволосой, чудесную осеннюю пестроту омывает прозрачное высокое-высокое небо.
В чём тайна композиционного инварианта?
С одной стороны… с другой стороны… куда податься? Это не драма, это растянутая на всю жизнь экзистенциальная катастрофа.
отсох язык– Весь я не умру? Ха-ха-ха, блажен, кто верует, ха-ха…
– Страшно! Страшно и подумать о вечности, где меня не будет. Ну, хоть что-то должно после меня остаться, хоть что-то…
– Знаешь, гриф, налопавшись мертвечины, не в силах взлететь, так и сидит, переваривает, – весело заливал за спиной Соснина Шанский.
– Да что б у тебя…
незнание-сила?Жена Художника вновь разливала чай; рукавом вязаной кофты касалась своего написанного маслом плеча, обтянутого тускло блестевшим, тёмно-зелёным атласом… в пространстве портрета она могла не бояться вечности.
– Не стану спорить, вопрос зачем преследует, точит, – не унимался Шанский, расшвыривая глазами звёзды, – да-да, принципиально безответный, как талдычил доктор Бызов, непродуктивный для науки вопрос впрыскивает жизнь в искусство. Что же до науки, то её познавательные перспективы туманны, даже темны, – Шанский уписывал какой уже кусок пирога! – считалось, что человечество, топающее от победы к победе по спиральному большаку прогресса, заряжается и подгоняется знанием, ан нет, незнание, прикинувшееся знанием, давно ведёт нас, любопытных слепцов-глупцов. Но куда, куда? Застреваем в путанице понятий, в тупиках методологии, из миллионов противоречий тщимся вывести среднеарифметический смысл, а в нём, выморочном смысле этом, хотим прозреть правило, общеобязательное суждение, которого нет как нет. Открыли уйму частных закономерностей, а картина мира по-прежнему погружена во мрак. Славненько было когда-то! Осенённый Архимед с победным кличем выпрыгивает из ванны, Ньютон потирает шишку на лбу, Эйнштейн пиликает на скрипке. Ха-ха-ха, кончились озарения, великие открытия частностей исчерпались. Вот балласт знаний и усугубляет застой, ха-ха, плоды просвещения гниют, вонища…
– Тебе с лимоном?
– Ох-хо-хо, – хохотал Бызов, – ты-то и есть подгнивший плод просвещения! Ну и фрукт! Шарлатан-искусство-ед, водишь нас за носы по кругу.
– А кто виноват? – не умолкал Шанский, – концепция ли, гипотеза эгоистичны, они, как магнит металлические опилки, притягивают лишь помогающие их логическому обоснованию разрозненные частички знания. Но разве ускользающая от исследовательских инструментов цельность, мирозданье во всей божьей его красе, готово покориться столь милой горе-аналитикам причинной избирательной логике?
о научной природе самообмана– Построение научной концепции схоже с построением перспективы, – Соснин припоминал визгливые пояснения Зметного, – берётся одна, именно одна, точка зрения, привязанная с учётом пространственной сложности объекта к одной, двум, нескольким точкам схода. Следовательно, в основе концепции ли, перспективы – самообман, обусловленный выбором граничных условий – для сколько-нибудь оригинального высказывания нужно найти свой угол зрения, желательно острый. Взятый ракурс – отменяет все остальные, изобилие коих лишь льстит комбинаторным амбициями интеллекта. Ибо нет способа просуммировать, свести воедино разные перспективы или разные концепции, тем паче, концепции конкурирующие! – они принципиально не сводимы; интеллектуальных средств прикладного мышления недостаточно для полноценного синтеза; он невозможен вне наших оскудевающих, но всё ещё живых чувств.
Головчинер обиженно молчал, сцепив пальцы.
– Что тут непонятного? Фетиш науки – точность, а точка зрения – это подкупленное точностью исключение в обманном обличье правила, – Соснин повторял слова Зметного, пока тот постукивал мелом по доске и резко вертел туда-сюда иссохшей, в белёсой опушке, головкой, как если бы высвобождался из вязкого гула аудитории, – ради решения локальной практической задачи такой зрительный ли, методический изолят абстрагируется от полноты мира, его принципиальной нерасчленимости, по сути отрицая множественность вероятностных точек зрения, хотя только живой глаз схватывает мгновенно целостность, перекомпановывает детали, склеивает нюансы, будто смотрит спереди, сзади, сбоку одновременно. Что? Так и не поняли? – тогда увольте, просите помощи Шанского.
Милка шуршаще развернула обёртку, надкусила конфету.
Шанский и рад стараться, хотя никто его о помощи не просил. – Новая стратегия познания нуждается в релятивистском аппарате, да-да, квантовая механика рванулась за горизонт, но толку-то в прорыве локального раздела физики, который никак не сопрячь с остальными, – наука знай себе молится на причинную логику, холит объективность эксперимента, независимого от личности экспериментатора, ха-ха-ха, боязливо цепляется за окаменелости, лишь бы не заглядывать в бездны, полные эфемерностей…
Милка досадливо морщилась, как если бы дожёвывала не «Кара-Кум», а фантик.
– Не согласны, Даниил Бенедиктович? Вот и Бродский, ваш кумир, убеждает, что сужение концептуального смысла связано с отсечением всяческой бахромы, меж тем бахрома-то как раз и важнее всего в мире феноменов, ибо способна переплетаться. Так-то, не в бровь, а в глаз, однако абсолютно корректно!
– Если бы вы, Анатолий Львович, не цеплялись за брошенные вскользь соображения гения-поэта, а могли профессионально вникнуть в предметность точных наук, в том числе, в суть релятивистских подходов в физике, вы бы столь безрассудно не поучали, – Головчинер почему-то снова посмотрел на картину, – осмелюсь утверждать, сударь, познание законов природы обусловлено изучением трёх фаз преобразований – вещества, энергии, информации, и теперь, когда…
не договориться– Ох, вы оба пленники заблуждений! Если внезапно и сформулируется в детерминистской ли, вероятностной парадигме глобальная теория поля, если расшифруют тайны биополей, поставят на конвейер телепатические умения, то и эти открытия не станут золотыми ключиками в страну дураков, ибо не отменят духовной сумятицы…
– В том-то и фокус, ничего внезапно не сформулируется!
Гоша сокрушённо закуривал, Шанский, разогнавшись, взывал к глобальному переоснащению познавательных стратегий, дабы вторгаться в хаос не для посрамления его примитивною упорядоченностью, а…
– Но это действительно ведёт к концу этики, – соглашаясь с Гошей, вспыхивал голубым глазом рыжебородый Геннадий Иванович, – это же симптом неизбежной деградации, распад связей, все люди лишние, всё относительно, зыбко…
– Деградация, регенерация, дагерротип… – почему бы не поискать у созвучных слов общий корень? – паясничая, картавил Шанский, потом осёкся, сказал серьёзно. – Это только с наших, сегодняшних позиций выглядит деградацией, однако равнодушное к нам время многое переоценит, если не завтра, то послезавтра.
– Послезавтрашние позиции никому неведомы, плевал на них! – вспылил Геннадий Иванович.
базис понуждает сломать надстройки? (сгоряча)– Так вот – зачем? Хочешь снова напомню, зачем искусство? – Шанский инерционно наседал на Бызова, вдобавок алкоголь возбуждал, – раньше искали истину, смысл жизни в откровениях веры, теперь художник творит истину сам и, зашифровывая её признаки и ориентиры, торит окольный путь к ней.
– Чтобы уткнуться в тупик, – ворчал опять же инерционно Бызов, разморённый в отличие от Шанского выпивкой… не ощутил, что чмокнула в затылок, прощаясь, Милка, – ох, художнику бы только заблудиться в выстроенном им самим лабиринте.
Головчинер, глубоко задумавшийся, явно задетый антинаучными пассажами Шанского, посмотрел с сомнением на картину, погладил пальцем ямку на подбородке и спросил рассеянно, как в пустоту бросил. – А на кой ляд художнику лабиринт?
– Куда поместить героя? И себя, заблудшего…
– Лабиринт – это прообраз фабулы, – предположил Соснин.
– Плодотворная идея, – похвалил Шанский.
Головчинер пристально всмотрелся в картину.
– Чтобы выбраться на свет божий, пора ломать культурно-психологические надстройки, придавившие биологический базис?
– Ага. Хотя мы с тобой ломать ничего не станем, те, кто умных слов не знает, не понимает, сломают всё за милую душу или всё само изнутри раскрошится, если столичным теоретикам верить. Но я-то, думаю, такие вот раздолбают, – сняв очки, Бызов полоснул картину слепым взглядом. – Где Милка, тю-тю? И Татка слиняла? Так хотел с ней потанцевать. Птички разлетелись, – растопырив пальцы, смешно помахал согнутыми в локтях руками. Налил тёмно-гранатовое густое вино. – «Ахашени»? Ого! И где достают? Вертел, поднося к очкам, бутылку, бурчал что-то нечленораздельное.
Бызов перепил. Сквозь испарину на щеках и лбу проступали красные пятна. Круглый живот вываливался между подтяжками.
от великого до смешногоВыпив ещё вина, Бызов слегка приободрился, величаво задымил трубкой. – Ясно, у надстроек чересчур вычурная архитектура. Думаете, зациклился? Не-е-ет, я ведь диагност по призванию, чую, братцы, болезнь, которая пострашней падучей… теряется сопротивляемость культурного организма, атрофируются жизненные инстинкты. Но у толпы-то здоровых инстинктов прорва, в один прекрасный момент прорвёт – опьянеет, растопчет. Хотя пока всё обманчиво-спокойно, кладбищенская тишь да блажь скучных лет, застывшее время.
– Нет тебе, Илюшка, спасения! – опорожнил бокал Бызов, обхватил Соснина за плечи, – виновника архитектурных излишеств ждёт страшный суд! Рыкнут – подать Тяпкина-Ляпкина, не увернёшься, – ткнул ручищей в оконный прогал между краем картины и приоткрытой створкой, – вон, закат пылает, точно знамение. Распогодилось… посуху домой доберёмся…
Головчинер, что-то важное для себя решал, не мог решить; рассматривал картину, покачивал головой.
– Правда, тебе дело шьют? – сжимал плечи Соснина Бызов, – сколько гегемонов придавил твой колосс? Ну да-а-а?! Вот и верь добрым людям! И следов не осталось, как от иудейских храмов? Тогда пророчество отменяется, на авось понадейся и обойдётся, – вскинув пудовые веки, подмигнул, расхохотался. – Давай-ка! – поднял бокал с вином, – но не расслабляйся, перед настоящими преступниками они пасуют, зато с мнимым, вроде тебя, расправятся за милую душу, – снова налил.
– Почему Владилен не прикроет, номенклатурная осторожность? – подошёл Шанский, чокнулись; узнал от Бухтина о злоключениях Соснина, ждал подробностей.
Нет, время для главных подробностей не пришло, – интуитивно притормозил Соснин, – не время, не время… да и Тольке с Антошкой сейчас не до нелепиц и совпадений случившейся с ним истории. Или рассказать всё-таки о дядиных письмах из Италии, об отце Инны Петровны, Тирце, его судьбе? Кстати, Тольке близки тирцевские рассуждения о художнике, рождённом от соития бога с дьяволом… Нет, нет, рано, – пресёк последние сомнения внутренний голос, – история не завершилась, не обрела композицию. Лишь бегло коснулся баллотировки Филозова в Академию, опасного для его карьерных планов отъезда Нелли, кузины жены, по израильской визе… тем паче гениальный Неллин муженёк взбудоражил физиков-теоретиков, обозлил партийные органы.