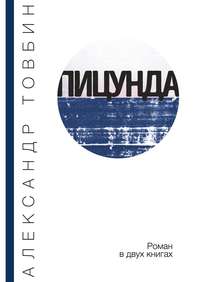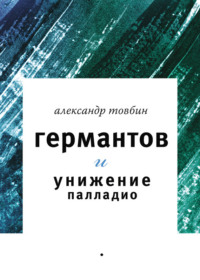Полная версия
Приключения сомнамбулы. Том 2
– Агриппина в гробу ворочается, – шепнул Соснин Шанскому.
– Чудо какое-то.
– Да, Милочка, чудо создания. Человек, собранный из чудес, функционирует как комплексное смертное чудо.
– Расчудесный ты мой, – раскрыла объятия Милка, но заключить Антошку в объятия не смогла, Бызов сидел по другую сторону стола.
– Антон Леонтьевич, вы, учёный, не боитесь переборщить с чудесами? – мягко укорял Головчинер.
Куда там! Бызов ничего не боялся.
– Мелодию пустоты, благодаря колебательно-волновой природе ДНК, можно услышать с помощью лазера, который я бы уподобил поднесённому к устам микрофону. Мне не нужны промежуточные суррогаты любых художеств, – расхвастался Бызов, – в отличие от вас я напрямую наслаждаюсь искусством Создателя… по сути это песнь Создателя, обращённая к новому человеку, напутствие… Конечно, слышал. Напоминает птичьи трели, рулады. Песнь для каждого будущего организма звучит по-своему, как индивидуальная колыбельная. И никакой мистики – чистый акустический эффект. Хотя, спасибо гипотезе волновой генетики, на кафедре меня за мистика держат, в Стенфордский университет не выпускают почитать лекции, – Бызов взялся набивать трубку, – не заскучали?
– Нет, заинтриговал, – напрягся развесивший уши Гоша.
Зато Головчинер давно поймал Бызова на вопиющем антинаучном противоречии. – Высшие силы, на которые вы многократно ссылались, да-да, высшие силы, якобы распоряжающиеся архивами ноосферы, покровительствующие избирательно индивидам, это пусть и косвенно, но признаваемый вами Бог? Как хотите, но одно из двух, или, Антон Леонтьевич, эволюция, или Бог, а для вас Бог поставщик концепций и аргументов, вы смешиваете дарвинизм с поповщиной. – Если не смешивать, будет неинтересно, – Шанский энергично жевал язык, но гимн пустоте вдохновил поскорее дожевать, и, пресекая строгие возражения Головчинера, которые могли бы увести в сторону, самому открыть рот. – Антошка, твоя гипотеза льёт воду на мельницу теологов-абсолютивистов, тебя послушать, так и впрямь всемогущий Бог не только с небес надзирает за наспех сотворённым миром, но и присутствует в нём повсюду, активизирует, хоть и колыбельной песней своей, любую жизненную точку мирового пространства, полнящегося пустотой?
– Льёт ли, не льёт, пусть гадают сами теологи, а я повторю: пустота – ёмкая, сверхсодержательная субстанция, вместилище божественной методологии. Да, геном – это уникальное хранилище информации и шифра, в том-то и тонкость, шифр тоже есть информация. Кто мы? Мы – послание абсолютного разума, послание Бога, если угодно. Кому послание? Зачем? Какой во всём этом смысл? Ох, сколько кухонных мудрецов сломали на этих вопросах зубы! Разве бумага, чернила, слова письма знают адрес, написанный на конверте? Вглядываясь в себя, мы лишь опознаём, – повернулся отважно к Шанскому, – головоломно-сложный, нарочито вроде бы запутанный текст. Видим – да, послание, но вряд ли кому-то когда-то дано будет его исчерпывающе и внятно дешифровать, тем паче – понять назначение.
– Как беден наш язык! Хочу и не могу! – вздохнул Головчинер.
Шанский кинул кость (упав на дискуссионный стол, соскользнула)– Не накапливает ли искусство индивидуальные версии дешифровки? Объективное ведь всего лишь сумма субъективного!
– Вшивые о бане! – гоготнул Бызов.
– Постой, постой, шифр-содержание… вне формы, то бишь шифра, нет содержания, форма воплощает-выражает, о-о-о, – воспылал Шанский, – ты, друг Бызов, оказывается, законченный супермен-новатор, хотя крикливо прикидывался весь вечер закоснелым охранителем основ! Поскольку информационные структуры являются опорными не только в живой природе, кое-что рискну добавить к твоим догадкам. Как нас учили? – посмотрел на теоретика, – голограммы-невидимки терпеливо, в потенциальной готовности откликаться на прозрения художников, хранят контуры и свойства неведомого. Так? Почему бы образам искусства не опознавать и вылавливать содержания форм-голограмм из тайн пустоты и вместо лазера-микрофона транслировать хорал Неба…
– Ну-у-у, дружище Шанский играючи превзошёл безумствами мою скромненькую гипотезу, – гоготал Бызов.
– А что? Русский человек широк, его не сузить, не ограничить, ему в объективных законах природы тесно, ищет антинаучные лазейки в запредельность.
– Русский человек, в запредельность норовишь по израильской визе смыться?
– Хотя бы и так! – смеялся, радуясь, что удачно поддели, Шанский.
– Послушайте, Анатолий Львович, – встрепенулся Головчинер, – был у нас в «Физтехе» талантливейший теоретик-отступник, некто по имени Феликс Гаккель. Он уверовал в обратимость времени, с пеной у рта доказывал, что скорость света вовсе не предельная величина, Эйнштейну пенял за отвержение эфира. Отважного упрямца на учёных советах уламывали, нет и нет, в мировом эфире, кричал, находится потерянный недотёпой-Эйнштейном ключ к теории единого поля.
– Что-что, мировой эфир как структурированный информационный ресурс? – перебил Бызов, – мне бы с вашим теоретиком потолковать, обнаружатся, думаю, точки соприкосновения с волновой гипотезой… математически описывал биосферу и ноосферу? Волновые сигналы генов можно закоммутировать с информационными полями космоса…
– Между кем и кем коммуникация?
– Ну-у, куцее моё воображение рисует архив судеб, прошлых и будущих, эдакие небесные досье… генетическая коммуникация замыкается на том ли, ином досье.
– Во сне? – очнулась под общий смех Милка.
– Мы собиратели и творцы информации… почему творцы? Таково условие коммуникации – не сотворив, не передашь! Озарения, вещие сны – суть наводящие вопросы, подсказки космоса…
– Гаккелевские описания мирового эфира не для слабонервных математиков, чересчур фантастические допущения, – ритмично покачивал головой, прикрыв глаза, будто стихотворение читал, Головчинер, – а встретиться с Феликсом, Антон Леонтьевич, не получится, он эмигрировал, хлопнув дверью; непризнанному гению взбрело на ум, будто в свободном мире другие законы физики.
– Встретитесь, – обнадёживала Милка, – поедешь, Антошка, на научную конференцию, там свои гипотезы состыкуете.
– Этого никогда не будет!
– Антошка, разнервничался? Дай я тебя поцелую…
– И я, и я, – затараторили, потянулись к бызовским щекам Людочка с Таточкой.
– Меня никогда не выпустят! – капризно, как упрямый ребёнок, пробасил Бызов; похоже, вступил в полосу неудач.
– Гаккеля в сотворчестве с сионистской физикой обвинили, он в эфирной информации или в содержаниях ноосферы, если угодно, уловил переклички с магическими смыслами Торы, – подключился Шанский, – в Коктебеле референт ЦК по пьянке признался, что Гаккелевская крамола партийные верхи испугала, Политбюро порешило, не медля, выдворить… слыхали с кем Гаккель улетел?
– С Нелли, – к Соснину заинтересованно повернулись Милка, Людочка с Таточкой, – ну да, Феликс Гаккель её последний муж.
– Последний? Ха-ха-ха.
– Виделся с ней?
– Справку об отсутствии финансовых претензий подписывал.
– По-прежнему хороша?
– Неотразима.
– И что её могло связать с этим плюгавым Феликсом?
– Любовь!
– Любовь, запряжённая в средство передвижения.
– Как Нельке завидую, – пропела Милка, – всегда знала, чего хотела, сама своей судьбой управляла.
– И добивалась своего!
– Время ей нипочём, не замечает.
– Напротив, всякую секунду использует.
– Кто озаботится мгновением, у того судьба ужасна и дом непрочен, – задумчиво предостерёг Головчинер.
компаса нет как нет– Подобьём бабки! Заблудились в знакомых сосенках, но если иронически в себя глянем, косо по сторонам посмотрим, то… – Бызов делал Шанскому с Сосниным козу.
– Куда идти? Даже запретные пути вытоптаны.
– Человека потеряли – вот и топчемся, куда без него?
– Куда глаза глядят, творческие пути неисповедимы. Раньше, конечно, гуманные ориентиры сбивали в единый строй, художники прописывали прогрессивно марширующим массам лошадиные дозы человеколюбия, но напоролись на гулаги-освенцимы. Пока затылки чесали, получили свежий приветик от красных кхмеров… кто бы не стал растерянно озираться?
Четверо неподвижно сидели за длинным столом, накрытым льняной белой скатертью, смотрели, не мигая, прямо в какую-то одну, видимую только им точку; свиные бесцветные глазки, скрюченные пальцы вцепились в зеркальца с отражениями подстаканников; центральное, взятое в латунную рамку зеркало оставалось пустым.
стилистика против стиля– Естественно, выплески глобального насилия уценили надежды – светлые горизонты заволоклись багровым туманом. И поменялись законы художественной вселенной, обрушился стиль как концентрированная вкусовая деспотия коллективного идеала. Стиль ориентировал духовные поиски, признаки стиля служили катехизисом, объединяли, и вот… в судорожном вытеснении изма измом, в сужавшихся промежутках между новациями зарождалось принципиально иное состояние культуры. Итак, картина мира, изменчивая в веках, но для всякого поколения художников вполне прочная и цельная, раздробилась.
– Кокнулось зеркало, – злорадствовал Бызов.
– Вот-вот, – ускорял колебания языка Шанский, – лови теперь своим осколочком необозримый мир, благо в цене растёт непредвзятый оригинальный взгляд… ещё бы, стиль по природе своей авторитарен, стилистика – демократична, ибо личностна, субъективна. И, – вопрошал Шанский, – что отличает развернувшуюся гонку идей-форм, в которой книги по непродолжительности жизни скоро начнут обгонять газеты? Ясно, – торопился, – терпимость, вполне мирное сосуществование индивидуальных стилистик, исподволь складывающихся в многомерную и объективную, благодаря интеграции множества субъективных взглядов, картину мира… а зов полноты вменяет вчитывание, всматривание в любую мелочь.
– Кто-кто вменяет?
– Всесильный бог деталей, – нашёлся Даниил Бенедиктович.
– И, – продолжил Шанский, – стилистика парадоксально рвётся к полистилистике, жадно втискивая в свой осколочек зеркала не только весь мир, но и отражения его, пойманные другими художниками, – странно укрупняясь, индивидуальный взгляд поглощает разные взгляды, одинокий голос – многоголосие.
фон– Мурыжат в «Неве» последнюю поэму Лейна?
– Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст, – автоматически забормотал Головчинер.
– Одическая басовитость Лейна давно наскучила!
– И чему мог научить Бродского?
– Разве что красавицам в тёмных дворах наступать на пятки.
– Как там теперь Иосиф?
– На Манхеттене есть тёмные дворы? То-то! И американок не купить живыми глазами, не позволят себе наступать на пятки.
– Вот и приходится меняться… стихи-то недаром стали совсем другими.
– Кузьминский с оказией «Биробиджан» прислал из Техаса, перед отъездом сочинил, а только сейчас прочтём.
– Уже прочли! – улыбнулся Головчинер.
– Лучше перечитывайте Кривулина, «Натюрморт с головками чеснока» великолепен.
Геннадий Иванович презрительно пил лимонад.
шум времени, разложенный на голоса– Вконец заврался искусство-ед! – опять разорался Бызов, – всё смешал, свалил, будто мусор, в кучу.
– Авось стихи вырастут, – дурачился Шанский.
– Хаос – партнёр порядка, генератор непредсказуемости, порождающий то, чего не было, – втолковывал Головчинер Милке.
– При чём же безударные гласные, как они…
– Как?! С их помощью усложняют ритм, каждый гений усложняет по-своему, а статистическую мозаику ударных и безударных гласных анализируют универсальным методом бинарных оппозиций и…
– А главное что, когда столько небывалого наворочено?
– Пожалуй, отбор, критерии отбора.
– Что-о? При нынешних-то умственных хворях? Доверить отбор случайным импульсам подсознания?
– В подсознании нет случайностей!
Бызов в пылу беспредметного спора успел сделать несколько коротких жадных затяжек, цедил сквозь зубы тугую тонкую струйку дыма.
– Какие критерии? Забыт кантовский императив… Не удивительно, хвалёный поток сознания обмелел, яркие герои умерщвлены вместе с сюжетосложением; прямую речь вытесняет косвенная, действие – описания. Настричь цитат, сблокировать мнения и дегероизированное чтиво готово, – у Гоши дрожали губы, пальцы, крошившие сигарету.
– О, брат Гоша, писать всё труднее.
– И где, где изящество, лёгкость стиля? В тяжеловесных описаниях-рассуждениях волшебное единство жизни подменяется бесплотной дробностью чувств, черт, стриптизными излияниями авторского начала – псевдонимы прозрачны до неприличия.
– О-о-о, нас давно испытывает не экстремальная ситуация выбора, но туповатая повседневность, замаялись. Уценив гармоническую героику, время отринуло и божественную моцартовскую лёгкость, что же до автора, натужно одолевающего банальности, то ему не хочется умирать в вымышленных героях, он уже не лепщик образов, он лишь озвучивает условные голоса, в которые всё явственней вплетается его голос.
роман без концаЛавины слов! Что ещё за завтраком плёл Бухтин?
Лейн, Айман, Битов, стыдливо оправдываясь матримониальными обстоятельствами, выменяли промозглые петербургские сумасшествия на близость к стольным толстым журналам, на престижные переделкинские прогулки с сильными ли, бессильными сего литературного мира, на что ещё? Неужто за сюжетцами потянулись в жадную бучу? Ох, в их ли духе такое: жара, пролитое масло, голова, отрезанная трамваем? Раздули бог весть что из залежалого советского бурлеска, сдобренного тёпленьким малороссийским юмором да хохмочками «Гудка»; и библейский контрапункт притянут за уши… С ужасом и восхищением внимал Лев Яковлевич филологическим эскападам зарвавшегося любимчика! А если бы такое услышал? – Зато в нашенском болоте не одолевают соблазны славы, куда там, – подливал коньячок Бухтин, – питерская меланхолия мирит с безвестной смертью, в том числе – это-то как раз вдохновляет – смертью привычно-удобной прозы. Где ещё, как не в некрополе, присматриваться к неотвратимому? Глаз, к которому приравнялось перо, удивлённо и пытливо скользит, будто бы по незнакомой бескрайней поверхности, ощупывает холодный, аморфный из-за неохватности предмет – отчуждаемый мир.
Московского теоретика окутало голубое облако.
Шанский резко вскинул руки, стащил через голову свитер. – Да, с единобожием подкузьмили всех иудеи, мы беспомощны перед лицом единого бога – завхоз мироздания не справляется! Славненько жилось язычникам, к любому отраслевому богу можно было обратиться с конкретной просьбой, ну, к примеру, я бы сейчас взмолился. – Эол, будь милостив, мне душно, нещадно дымят курильщики.
Жена Художника разливала чай, приоткрыла форточку.
И ещё Валерка вещал в «Европейской» о дематериализации прозы стилем, об отстраняющей власти стиля… и о вечном споре формы с бесформенностью, ибо всякая художественная форма – о чём тут спорить? – является как бесформенность, новая гармония не улавливается, хотя она жива и пульсирует, её опознают позже.
Затем безо всякой связи с диалектикой формы о Свидерском со злостью вспомнил; годы щадили гада, скрюченный, еле из паралича вылез, а не угомонился, до сих пор командовал дружинниками – выпалывал сорняки.
На столе – вазочка с пилёным сахаром; ровные грани, строгая геометрия… такой же пилёный сахар, только на блюдечках, подавали днём, пока не сломалась машина, к кофе.
– У романа отнят конец, нет и не будет уже развязки – только начало. Это не похоже на недописанное письмо, оборванное на полуслове, нет, это, – посмеивался Валерка, – как жевание языка Шанским; жуёт, жуёт, но не прикусывает, слов всё больше, текст непрестанно преображается, по-иному развёртываясь от неожиданных добавлений, роман без конца вбирает и все остальные романы, давно написанные-дописанные, читанные и даже нечитанные автором.
– Бывает счастливое совпадение мышления с творчеством? – спросил Соснин.
– Бывает, у Набокова, – тотчас отозвался Шанский.
Гоша брезгливо передёрнулся от холодности языковых красот, постыдного, извращённого любопытства к человеку, как к насекомому.
– Не набиваюсь в арбитры вкуса, но…
– Валерка, конечно, приплетал Манна, хотя тот…
– Нет, Манн не компилятор, он лишь донёс до нас, помимо собственных, чужие идеи, сплавил всеобщие идейные искания с индивидуальным творчеством, – возражал словами Бухтина Шанский.
Бызова распирало негодование. – Поймите, самонадеянные слепцы, поймите! Генетически запрограммированы и цель жизни, и средства её, а сознание, психика, букеты идей и ощущений, которые порождают философию, науку, искусства, – суть побочные продукты не жизни, но жизнедеятельности, искать в них божественное назначение человека всё равно, что искать пропажу под фонарём.
будущее как прошлое…толпы первопроходцев век за веком топчут исторический круг – всё было; в египетской пирамиде отыскалась недавно модель двухмоторного самолёта, будто пионеры в авиакружке смастерили.
– Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь, – напоминал Милке заботливый Головчинер.
– Всё равно хочется в будущее заглянуть, хочется, правда? – у Милки взметнулись патлы, – с три короба сверкающих и дробных страхов наобещали, адские котлы там кипят, а хочется! Узнать бы, что стрясётся с нами, какими станем!
– Не становитесь только мегерами, как Дельмас.
воспоминание как творениеЕсли бы… если бы, как когда-то в детстве, залезть под гостевой стол, укрыться в замкнутой тишине. Не многовато ли для одного дня? – завтрак с Валеркой, допрос-спектакль, теперь… знакомые голоса уже не успокаивали, напротив. – Сознание, – настигал Шанский, – одержимо прошлым. Казалось бы, что за напасть? Было и быльём поросло, подробности выветрились за ненадобностью после потопа, однако картины прошлого всплывают из тьмы – волнующие, невиданные, будто сотворённые заново. Озарения провоцируют память, память – фантазию.
Бросил в чай кусочек сахара, машинально помешивал.
Откуда сосущая тоска? Завтра надо написать справку… угрожает нелепый суд. Был свидетелем, превратился вдруг в обвиняемого. Не верилось, что упекут в кутузку, но суд вполне мог потрепать нервы, поломать планы. Удастся ли осенью слетать на мыс?
Нет, вспоминались не только прибрежное кафе под бетонным навесом, на тёплый свет которого спешил из чернильных сумерек белый катер, не только мягкие космы рощи, металлический блеск магнолий и шелест пальм, сияние полумесяца, похищенного у какой-то мавританской идиллии; как понять, как? Сегодня загляделся и – сразу затосковал по Фонтанке, Неве, по летнему сине-белому ледоходу с величаво плывшими навстречу льдинам сросшимися домами… и дом с затеснённой шкафами, увешанной картинами, обновлённой гипнотическим большим холстом на мольберте комнатой, где Соснин помешивал чай, куда-то плыл, уплывал, и слова, слова уплывали в прошлое; от чёткой грани сахарного кирпичика отлетали частицы, уносились чайными горячими завихрениями; смялся, спеша раствориться, размягчившийся уголочек.
Опять прижалась ослепшая от слёз Милка, – Илюшка, больно за Бичико! Помнишь, кричали ему? – Бичико, четыре чашки, покрепче, чтобы ложки стояли! Так жаль, любил, страдал и повесился, Зося жестоко посмеялась над ним… никогда его не забуду…
измученные в тупике– И почему ты, брат Гоша, против монтеневской и стерновской традиций самораскрытия на грани саморазоблачения? – с деланной укоризной дивился Шанский, – учти, брат, в тончайшей психотехнике расслоений сознания размываются границы жанров, дневник заимствует у романа многомерность, роман у дневника – искренность.
– Твои психотехнические расслоения, – ерепенился Бызов, заключая тактический союз с Гошей, – эгоистичная компенсация душевных дефектов, вот где энергетический кризис: ни порыва, ни веры.
– Плохо, если мир во вне изучен тем, кто внутри измучен, – наклонившись над тарелкой, итожил приговор Головчинер.
заигрались– Именно!
– Только измученность растёт в эстетической цене – самолюбование в зеркалах, перелопачивание прошлогоднего снега… одурманенное игрой, сознание сушит душу и – включает защитный механизм; спасение от паралича воли ищут в грёзах…
доигралисьКапитуляция перед иллюзией свершилась – Головчинер выпил и эффектно соединил разрозненные строки в давнее провидческое четверостишие:
Рассудок, умная игра твоя –Струенье невещественного света,Легчайших эльфов пляска – и на этоМы променяли тяжесть бытия.– Да, иссякают кровавые и любовные страсти-мордасти, нет больше бешенного, оскорбительного напора жизненных сил и слов, такого, что мир трещал.
– Ха-ха-ха, литературу натурального действия, эпатирующую благонамеренный быт, слава Всевышнему, закрыл Лимонадный Эдичка!
– Зато автор во всё нос суёт надо-не-надо.
– О, автор – не поучающий всезнайка, его сбивчивый голос – голос сомнения.
– Бессовестно зарабатывать творческий капитал на распадении языка и смысла, – кипятился Гоша.
– Распадение – симптом обновления, надо бы терпеливо, внимать новым смыслам.
– Ох, – отмахивался Бызов, – правильно говоришь потому, что знаешь, но не истинно – потому, что не озабочен.
хвала сумеркам (ароматизатор для идейного содержания?) и посильные уточнения– Литература, упиваясь самообманом, и нас обманывает, когда внушает веру во всесилие слова, – опрометчиво впутался в нескончаемый спор Соснин, – музыка, живопись, архитектура будят, прежде всего, эмоции, слово же, направляемое логикой, манипулирует разумом и…
– Илья Сергеевич взывает к немоте, изъятию из слов смысла? – насторожился Головчинер; Тата, Людочка, Милка, замученные дискуссией, которая скакала с пятого на десятое, ускоренно жевали, чтобы улизнуть за шкафы, к стопке журналов мод.
– Вспомним, – вяло молвил Соснин, – вспомним, глубинная функция языка состоит в сокрытии смысла. Зачем, спросите, скрывать, если полный и точный перевод мышления в речь в принципе невозможен? Но я-то не про ложь изречённой мысли, не про потери смысла в коммуникационном усилии, а про природу художественности. Слово утаивает содержания, возвращаясь ли, устремляясь в до-логические темноты, – высказывает много, ничего не сказав; учится у бессловесных искусств затемнению смыслов, обращению к эмоциям напрямую, минуя разум. Согласимся, под покровом самых убедительных рассуждений пульсирует тайна, не исчерпываемая в истолкованиях. Искусство подобно цветку, который благоухает в сумерках.
– И, по-твоему, роман – это…
– Это, помимо всего прочего, чем традиционно жанр романа загружен, многословная композиция из умолчаний.
– Ладно. Что тебя формально задевает в кино? – вытряхивал из бутылки в рюмку последние капли Бызов.
– Стоп-кадры.
– Оригинал! А в драме, на театре? Актёрские перевоплощения?
– Избави бог! Сегодня Чацкий, завтра Хлестаков, послезавтра Базаров и далее…
– Павка Корчагин, – подсказала Людочка из-за шкафа.
– Погоди, Ил, актёрские корчи и режиссёрские выкрутасы – побоку, ты, допустим, попал на читку гениальной пьесы… что захватит?
– Авторские ремарки. Зачарованность ремарками с той поры, наверное, ощутил, когда Ля-Ля измучивал нас читкой «Чайки». Помнишь начало? Такое простое, таинственное… – «Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик. Только что зашло солнце».
– Всё у тебя не по-людски, от скромности или гордыни помрёшь? – ворчал, отставляя пустую бутылку, Бызов, – пол-литра не хватило, чтобы разобраться.
тоскуя по примитиву– С истончением письма, измельчением ячеек событийной сети как раз и убывает эмоциональность… и чем возместить потери? Неужели игрой в авторское саморазоблачение? Или опять – припадками грубой чувственности? Безвкусными лубками, вмонтированными в худосочную ткань? – не унимался Гоша, – и можно ли вообще возместить какими угодно изысками авторское саморастворение в слове, искренность, теплоту, отданные тексту, будто близкому человеку?
– Проблема проще, чем кажется, – пожимал плечами московский теоретик, – надо забыть об умениях, о стилях-формах-приёмах, надо зажмуриться, заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать искусительных подсказок культуры.
– Хотя, – заливисто смеялся Шанский, – это и невозможно.
– Почему? Искусство колеблется между изысками и безыскусностью.
– Я витриной булочной залюбовалась: лепной тестовый лес, населённый птицами, зверьём – пятнистый олень из пряников, присыпанный кофе филин на шоколадной ветке. Спустя неделю в той витрине – подводное царство, огромный марципановый рак со сдобными клешнями, выпученными, из горсточек изюма, глазищами. Потом, дурёха, у окошка сапожной мастерской застоялась, – Милке, высунувшейся из-за шкафа, сочувственно кивал Гоша, – тоже лес, только из засушенных цветов, и гномы в сапожках на каблучках, медвежонок, всё-всё из мха, лепестков, каких-то жёлтых стручков. И верба для зайчиков, полупрозрачные шары одуванчиков, как сказочные деревья над вересковой чащей, цветник в палисаднике из мимозы. Загляденье, бабушки с внучатами к стеклу липнут. Столько любви!