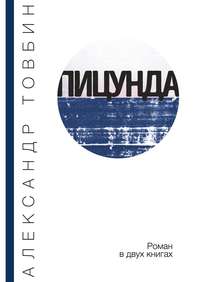Полная версия
Германтов и унижение Палладио
– Куда вести? – поднимал глаза.
– И что значит, – переспрашивал, – вперёд и вверх?
Тут она замолкала, возможно, вспомнив о судьбе сына, Изи, которого одарённость и одержимость вели, конечно, вперёд и вверх, но вовсе не привели к счастью, напротив, ввергли в неизлечимую болезнь.
Делай, что должно, и будь, что будет?
Шажок с шёпотом: ноги совсем не слушаются, совсем не слушаются; ещё шажок, молчаливый.
– Да, как я дошла до жизни такой? Мух всё охотней превращаю в слонов и всего боюсь, всего – поскользнуться, оступиться, споткнуться… Сегодня, чувствую, биоритмы против меня; удастся ли не переломать кости, домой вернуться? И ещё я, Юрочка, между нами говоря, боюсь сквозняков, боюсь простудиться, подавиться… Всего, что мне сделать надо, боюсь, вот такие пугливые заботы мои… – пыталась вернуть заблудившуюся мысль к поиску истины.
– Я, нынче уж точно горемыка и доходяга, хочу напоследок пусть и мизерную пользу извлечь из своего плачевного положения, понимаешь? Один из возлюбленных моих древних греков, точно не скажу кто, но скорей всего Гераклит, сказал: старость покупает что-то ценою жизни. Что-то! Получается, я тоже это «что-то» прикупила уже – прикупила, понимаешь? И хотя мне есть на что обернуться в жизни, я всё никак не могу понять, чем же я теперь таким особенным обладаю… А ты – откровенность за откровенность, идёт? – чувствуешь во мне какое-то приращение ума, мудрости?
Беззвучно посмеялась.
– А если, допустим, приращение такое и есть, то всё равно мне мало его! Как я, Юрочка, завидую верующим, у них есть ответы на все вопросы… Ну да бог с ними, с верующими.
Решилась на новый шажок.
– Ты тоже будешь озадаченно спрашивать себя, а может быть, уже спрашиваешь – что есть жизнь, в горько-кисло-сладкой гуще которой, едва начал соображать, вдруг себя обнаружил? И что есть именно твоя жизнь, ввергнутая как бы без учёта внутренних твоих устремлений во всеобщее, как куча-мала, сражение за место под солнцем, что именно тебя ждёт? Не в моей власти в хитросплетения твоей судьбы заглядывать, скажу лишь, что судьба, предопределяющая путь твой, будет тебе бросать вызовы – вызов за вызовом, понимаешь? А ты, если не захочешь смиряться и покоряться, бросать будешь вызовы своей судьбе, потому что между твоей неумолимой судьбой и самыми прихотливыми твоими желаниями есть таинственная зависимость… Я, Юрочка, бьюсь как рыба об лёд, чтобы главное объяснить тебе, чтобы ты понял…
Как такое понять? То казалось, всё-всё знала она о нём, о его будущем, как если бы и впрямь своими глазами видела, как для него жребий, трепеща, невидимая душа вытягивала из шапки Бога, наполненной тайными свёрнутыми бумажками, то…
– Скажу лишь, что вызовы вроде бы индивидуальны всегда, однако все мы одним миром мазаны, почти всем нам мнится под конец дней, что жизнь вылилась в сказку без морали, обманную, обидную и безысходную сказку. Но в юности, когда всё ещё впереди, каждый решает одну и ту же задачку, и ты, конечно, тоже будешь её решать: как выделить и определить её, твоей жизни, единственной, смысл и цель, как понять, из чего, собственно, она состоит, думаешь ты, прислушиваясь и озираясь: из звучащих и прочитанных слов, из сменяющихся непрерывно картин? Из чувств, мыслей и впечатлений? И что и как связывает тебя с миром, и что сулит тебе непостижимый наш мир? Это, Юрочка, опасные и каверзные вопросы, лишающие покоя: вопросы вопросов, посягающие на тайны тайн, понимаешь? Ответы на них, если солгать себе не захочешь, из пальца не высосать… Хотя вроде бы много их, разных ответов, и все они, пусть и исключающие друг друга, кажутся равноправными. Но, – засмеялась, – ты только не убивайся, когда интуиция каверзно подскажет, что тебе познавательные посягательства на тайны тайн не по зубам, самое интересное – задаваться вопросами, на которые в принципе нет ответов.
– И философы, выходит, зря смотрели в лицо бытия, задавая свои нелицеприятные вопросы?
– Не совсем зря, – замялась было Анюта, но губы её тронула улыбка, она явно порадовалась, что он, как умный взрослый спорщик, поймал её на противоречии, – философы, задавая свои вопросы, затем искали вероятные версии ответов, понимаешь? Всего-то – версии.
– Но если они, философы, ещё и верующие – им-то всё понятно должно было бы быть, у верующих ведь есть, ты сказала, ответы на все вопросы.
– О, удачный выпад с твоей стороны, – глаза лукаво смотрели. – Из тебя, возможно, вырастет фехтовальщик.
И сказала с бессильной усмешечкой:
– Ты вынудил меня на признание, учти, на непедагогическое признание: у жизни, наверное, куда меньше смыслов, чем нам хотелось бы думать.
И повторила уже серьёзно:
– Я вкрадчивым голоском пробуждаю любопытство твоё, тонко намекаю на толстые обстоятельства, хотя боюсь при этом оказать тебе медвежью услугу. Ответов нет, Юра, нет. Даже для умных верующих нет, понимаешь – для умных. Много нас, званых на пир мысли, да мало избранных, понимаешь? Даже версии ответов – удел избранных. А мы, сколько ни шевелим мозгами, лишь забалтываемся в беспомощных попытках сформулировать вопросы.
* * *Хм, не далее как вчера вечером Сиверский с Анютой затеяли на кухне шутливую пикировку по поводу тайны тайн; силы казались неравными – маленькая-сухонькая Анюта и внушительный Сиверский – широко расставлены крепкие ноги, вязаная жилетка растянулась на животе.
– Как здоровье?
– Тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, благодарю Бога и вас тоже благодарю покорно: женьшень выручает. Знаю, знаю и верю, что вы – всемогущий, но где вы, Яков Ильич, всё-таки женьшень добываете, если корня нет ни в одной аптеке?
– Тоже мне бином Ньютона! Из-под земли достаю.
– Ура, пока достаёте – жить буду!
– И что же такое жизнь как процесс, Анна Львовна? Не биологический процесс, замешанный на белках, почему-то полюбившихся Энгельсу, а, допустим, нравственный.
– Краплеными словами не брезгуете?
– Но-но, я обижусь!
– На обиженных воду возят…
– Но я пытлив безмерно, до идейной неразборчивости…
– Тогда простите великодушно. Нравственный процесс, как вы изволили коряво, по причине идейной неразборчивости, сказать, как ни печально, предполагает необходимость идти навстречу потерям.
– И кто же навязал нам, покорным и безответным, печальную необходимость?
– По слухам – Бог!
– А по достоверным сведениям?
– Коснусь-ка предыстории, чтобы заострить аргументы…
– Будьте любезны!
– Власть греческих богов была всеобъемлющей, они, интригуя между собой на Олимпе, играя и заигрываясь, флиртуя, во все любовные тяжкие пускаясь, умудрялись ещё и следить за каждым шагом каждого человека, – головкой принялась покачивать, как бы искренне сокрушалась, – а у единого Бога-Господа давненько уже опустились руки. Неудивительно, что мы сейчас идём-бредём по инерции, а потерь – больше и больше; наш Бог с усложнявшимся земным хозяйством не справился, отказался от спасения неисправимого мира, всё бросил на самотёк… А мы, лишённые небесного попечения, чувствуем, что осиротели.
– Языческая предыстория и ваши выводы из неё убеждают. Но что достоверные источники вам об единобожии в начале начал поведали?
– Самое главное! Если верить Библии, если не пугаться попусту, а между строк читать безнадёжное откровение её, Господь Бог раскаялся, что сотворил человека, вот и опустил руки.
– Какая безответственность!
– Выше-то нет никого, нам некому жаловаться.
– И зло в мире допустил Бог. Зачем?
– Чтобы красоту добра в сравнении со злом оценить и возвеличить; без зла добро бы попросту не существовало.
– И кто это первым понял?
– Наверное, Блаженный Августин.
– Но почему же Бог позволил человеку грешить?
– Бог сотворил человека свободным, а свободные люди во всём свободны; они, между прочим, не только грешат, но и каются.
– Для Бога свобода человека была столь важна?
– Исключительно важна!
– Но свобода – это ведь что-то расплывчатое, чересчур общее.
– Её каждый может индивидуализировать для себя.
– Как?
– Знаете главную молитву Франциска Ассизского?
– Будьте любезны, Анна Львовна, просветите.
– Господи, дай мне свободу! Я немножко поиграю и верну её.
– Получается, что свобода сама по себе – сверхценность, она куда важнее грехов и бед, свободою обусловленных?
– Всякая палка о двух концах.
– А дьявол нам разве не подкузьмил, не из-за его ли вкрадчивых наущений мы погрязли в грехах?
– Беда не в том, что дьявол и свита его сильны, а в том, что человек слаб.
– Отлично! А божественные заповеди нам спущены с небес для того, чтобы свободный человек сомневался, мучился?
Снисходительно посмотрев:
– Близко к тексту.
– К какому?
– Библейскому.
– Кто был первым грешником на земле?
– Притворяетесь, что пропустили вводный урок? Адам.
– И он же, Адам, первым покаялся и первым же был Богом прощён?
– Вы всё-таки неплохо подкованы.
– И до каких пор сохранится порочный круг прегрешений, покаяний и надежд на прощение?
– До тех пор, пока встаёт и садится солнце.
– Но, – хлопнул себя ладонью по лбу, языком пощёлкал, – сотворив человека свободным, Бог спровоцировал его на греховность, пусть так, а как же отдельные люди, которые всё же придерживаются благочестия? Бог их, выходит, закабалил?
– Благочестивые сами ограничивают свою свободу.
– Где изучали вы, Анна Львовна, в таких тонкостях богословие?
– В начальной школе.
– Какая вы ядовитая, – Сиверский опустил голову, опять языком пощёлкал. – Так что, свободный порочно-греховный человек при попустительстве Бога так далеко зашёл, что в нашем мире уже поздно что-то менять?
– Поздно, мы обречены век за веком расхлёбывать скорби свои.
– И…
– И, надеясь безосновательно на отсрочку, покорно брести в сумерках, чтобы в какой-то миг, назначенный каждому, шагнуть во тьму.
– Но самотёчная, полная скорбей жизнь в сумерках-потёмках, нам самим, несмышлёным, отданная на откуп, – что это такое? Что?
– Разложить по полочкам, начав от Адама, или подать на блюдечке афоризм?
– Сойдёмся на афоризме.
– Извольте. Белковые тела высокочтимого вами Энгельса и тут ни при чём… Жизнь – приоткрою пошловатый секрет, который для меня в моём положении давно уже не секрет, – жизнь, вся жизнь, есть предсмертная мука. Можно и чуть иначе, увидев щёлочку просвета, сказать: жизнь – это долгие муки, которые оплачивают миг счастья.
– Аплодирую! – смешно защёлкал языком Сиверский. – Но коли сам Господь Бог в нашем человечьем назначении разуверился, чего ради, скажите, претерпевая мучения, всё-таки мы живём?
– Ай-я-яй, школьную программу забыли? Чтоб мыслить и страдать.
– Спасибо, напомнили.
– Пожалуйста!
– Что является земной первопричиной наших страданий?
– Тело. Во всех смыслах – болезное и смертное тело. Не зря ведь вне тела и душа не страдает.
– Логично.
– А теперь с вашего позволения я спрошу… Сначала я, по гроб благодарная за целебный корень, подлизывалась, но теперь, раз уж походя и всуе мы неосторожно Бога задели, а Бог – архитектор как-никак, ибо сотворил мироздание, я вам, вхожему в заоблачно высокие сферы, беспардонно вопрос задам, для меня, блуждающей в трёх соснах, сверхсложный вопрос, а для вас, поскольку вы понимать должны то, что делаете, а за поприще своё живот на алтарь положите, верю и надеюсь, простой: объясните-ка мне, Яков Ильич, что такое архитектура?
– Этот вопрос, – засмеялся Сиверский, – всегда загоняет меня в тупик.
– При всех моих реверансах я вам лёгкой жизни не обещала.
– Да я и не ждал от вас снисхождения…
………………………………………………………
По поводу смысла жизни Анюта ответила серьёзно вполне, без хитрой своей улыбочки, хотя, по правде говоря, отшутилась… И потом сказала как-то, вздохнув, что всякий прямой вопрос о вечно насущных смыслах многие склонны принимать за вызов приличиям. Да, поиск ответа на вопрос вопросов откладывался.
А Сиверский вообще не ответил на её вопрос, отшутился тоже.
Разве нет и на этот вопрос ответа?
Так что же такое архитектура?
Сколько длились поиски понимания, да ещё в самых разных, пожалуй, и неподходящих вовсе для глубоких размышлений местах, даже на пляже под бастионами Петропавловской крепости… Ожил уморительный рассказ Штримера о том, как изредка наезжал из Москвы консультировать студенческие проекты Руднев – да, тот самый крылатый Лев Руднев, собственной персоной, в хорошую погоду предпочитал консультировать студентов Академии художеств на пляже, ибо успевал истосковаться за месяц-другой в Москве по исключительным невским видам; тут же был и Сиверский, верный ассистент-оруженосец, оба раздетые: тощий узкоплечий Руднев с рёбрами наперечёт и выпуклым белым животиком, холёная бородка клинышком, очки – хрестоматийный чудак-профессор, хотя в треугольной, сложенной из газеты шляпе и просторных длинных чёрных трусах; а Сиверский в модных, безразмерных – так-то, не только женьшень в суровую эпоху дефицита умел из-под земли доставать! – в модных, безразмерных, в обтяжечку, да ещё красных плавках – разве не пижон? – массивный и лёгкий, литой атлет с курчаво-седой грудью; мало что серебряная волосяная скоба эффектно охватывала на затылке и висках загорелую лысину, так ещё, будто шкурку серебристого барашка к груди приклеили – Сиверского за эту серебряную курчавость посвящённые называли Сильверским… Студенты, скинув одежды, образовали сидячую очередь к профессору-академику-демиургу и для любого из них в каком-то смысле духовнику. Вставая, не без робости подходя за приговором или утешением по одному, раскладывали на песке чертежи, придавливали камушками уголки бумажных листов. Советы-пожелания и указания сидевшего на полотенце Руднева были невнятны, взгляд почётного профессора-академика-демиурга рассеянно скользил по чертежам, а заинтересованно ощупывал обнажённые женские, соблазнительно раскиданные окрест тела. Однако каждого студента или студентку, прежде чем пожурить их за нехватку прилежания, а затем добросердечно отпустить всем им учебные грехи, Руднев несколько театрально спрашивал: «Что такое архитектура?» В ответ – растерянность, онемение учеников; и – в соответствии с двойственностью натуры Сиверского – бесшабашно-хитрые улыбочки монументального Якова Ильича, величаво-важные покачивания куполообразным кумполом. Под конец консультации, как если бы был очень доволен молчаливой растерянностью студентов, замедленно царственным жестом длинной костлявой руки Лев Владимирович обводил затенённую Дворцовую набережную, солнечную колоннаду Биржи, мосты, высившиеся над крышами златоглавый Исаакий и башню Адмиралтейства со сверкавшей иглой, чтобы театрально громко, обращаясь уже ко всем юным дарованиям, а заодно и ко всем раскиданным по пляжу телам, изречь: «Всё это, как ни странно, и есть архитектура, друзья мои».
В самом деле, в самом деле, – что же такое архитектура?
Чудеса в решете?
Витебский вокзал, дом с гастрономом на углу Загородного и Звенигородской, соборы в Париже, Шартре, о которых столько ему рассказывала Анюта? Арки, карнизы, балконы, эркеры, лестницы, витражи, апсиды, контрфорсы, аркбутаны… Всё такое разное, и всё это, и врозь, и вместе, собираясь по счастливым наитиям, но с учётом каких-то общих для всех трёхмерных правил и каких-то высших неписаных законов, – архитектура? Германтов тогда не спрашивал – почему? Задаваясь недетскими вопросами, он самостоятельно искал границы понятия. Вокзал – архитектура, но – с толпами пассажиров или пустой? Принадлежит ли дому с шикарным гастрономом тачка-ящик с «шурум-бурумом»? И статуи чудовищ и демонов, прогуливающиеся по карнизам, и медные купола-колокола, в которые истово звонил Квазимодо, тоже архитектура? Да и сам Квазимодо, карабкающийся на башню-звонницу, чтобы разорять вороньи гнёзда, уже тоже неотделим от собора? А Эсмеральда с козочкой? Они все стали неотделимыми от собора исключительно благодаря Гюго, его роману? Как же всё скопище разноликих-разностильных каменных чудес и утилитарных строений, да ещё и рождённых камнями литературных сюжетов, мифов, привязанных к ним бытовых историй, людей и вещей, свести воедино, выразить-объяснить и обобщить словами, если и Анюта блуждает в трёх соснах, а сам Сиверский, зодчий от Бога, как говаривали о нём, да ещё и сталинский лауреат – в тупике?
* * *Шажок, затруднённый шажок, особенно, почувствовал, затруднённый; у Анюты не было уже сил.
– И идеал тебе нужен, только свой, не заёмный! И оставаясь слугой своего «я», не бойся всего того, что будет тебе казаться твоими недостатками, не бойся и не принимай свои сомнения слишком уж близко к сердцу. Может, это и не недостатки вовсе будут, а исключительно тебе свойственные особенности, понимаешь? Те особенности, которых как раз недостаёт другим, те, которые и помогут тебе уцелеть в памяти людей. Ты прислушивайся к себе и – перечь себе, понимаешь? Отбрасывай сомнения и – не бойся строго себя судить. Но я не хочу, чтобы ты исключительно варился в своём соку и сделался самоедом, ни в коем случае не хочу. И иди, иди одновременно и на зов Провидения, и – наперекор своему уделу.
Шажок, ещё молчаливый шажок, ещё… Замолкала, чтобы сказанное успевало укладываться в его сознании? И – заодно – взывала к помощи биоритмов?
Обращалась к нему, всерьёз и ничего, чего бы ни касалась, не упрощая, хотя это был нескончаемый внутренний, начинённый сомнениями и спорами с собой, монолог, внутренний, но – произносимый вслух?
– Тебе не скучно?
Шажок, такой вымученно-затруднённый.
Накатывались сзади гомон, безголосое пение с рваной музыкой. Недовольно оглянулась.
– Угораздило в красный календарный день отправиться на прогулку.
Их нагоняло коммунистическое шествие по слякоти, с гармошками в переднем ряду, с мокрым, провисающим кумачом на палках.
– Только чуть-чуть-чуть потерпи ещё, хорошо? – молча провожали чёрный удалявшийся хвост колонны.
– Enfin! – гомон, музыка стихли.
– У меня силы иссякают, но, к стыду моему, непростительно язык развязался, это старческая болтливость, одна из главных моих, если так можно сказать, ахиллесовых пят, мне тягостно долгих монологов не избежать. И учти, Юрочка, учти и не прими за ересь: чем талантливее ты будешь, тем большее сопротивление встретишь. Но двоечников не бойся, не сторонись – самые отъявленные оболтусы могут быть бескорыстны и очаровательны! А вот ябеды, вечные троечники, маленькие мерзавцы под масками пай-мальчиков и прочая всеядная и внешне апатичная шушера возненавидит тебя как выскочку!
С сожалением посмотрела: доходят ли увещевания?
– Язык – враг мой. Извинишь ли не только за глубокомыслие на мелком месте, но и за скверную привычку говорить правду? Паскудно-мерзостный закон никак не отменить, никак – в один прекрасный момент ты почувствуешь, что окружён врагами. И не обязательно быть святым – достаточно и искры таланта, чтобы ополчались против тебя, пытались бы крылья тебе подрезать…
А что значит быть талантливым, что?
– Надо… любить тайны вокруг себя, только не мелочные, не такие – кто кого? – которые, будто бы в конце детектива, исчерпываются, будто их и не было вовсе. Чувствуешь, как дрожит мой голос? Чувствуешь, что я власть над собой теряю? Любовь к вечным тайнам, тяга к разгадыванию-постижению чего-то таинственного, что так манит и тревожит нас в перспективах жизни, сродни охоте за счастьем. Если по душе тебе разгадывание тайн, это верный признак теребящего тебя изнутри таланта.
И уже совсем не хотелось Юре быть талантливым, он побоялся даже дожить до того расчудесного времени, когда он, настолько умный, талантливый, что им бы могла гордиться Анюта, должен будет поплатиться за свой ум и талант; совсем ему не хотелось, чтобы коварные враги его окружали…
– Участь гения и вовсе трагична, понимаешь? Произвол судьбы по отношению к гению я, Юрочка, воспринимаю как сверхпроизвол. Или я ошибаюсь, и гений сам со смертью в русскую рулетку играет, как Лермонтов? Попивая шампанское, дразнил Мартынова, близкого дружка своего, мартышкой и додразнился, получил пулю. Или гения могут неуёмными восторгами сопровождать и встречать, а он по внутреннему своему ощущению – как пария. Ждёшь примера? Толстой под конец жизни захотел бежать от людей, захотелось ему в тихом одиночестве, наедине с собой и своими последними мыслями, побыть перед смертью; думалось ему, что в итоговом этом одиночестве сможет он приблизиться к истине, а его на маленькой железнодорожной станции нагнала свора газетчиков, всемирная свора подлых, голодных до смертей-новостей преследователей… – не понял ничего, но слово в слово всё, что сказала она, запомнил. – Семь дней Толстой на виду у всех умирал, а газетчики ждали – когда, когда? Им не терпелось отбить поскорее новость по телеграфу, а я эти же семь дней от сочувствия к Толстому, от жалости к нему, думала, сойду с ума, такая расплата за гениальность…
А что значит – быть гениальным?
– Гений – не от мира сего, понимаешь? И дар гения – помнишь, я про это говорила уже не раз? – то ли проклятие, то ли благословение, гений, как тот же Лермонтов признавался, «под бременем познания и сомнения» живёт, жуткие противоречия его раздирают. И вот он, гений, рождается; раз он не от мира сего, то, получается, он и не принадлежит своему времени, не выражает время, до него длившееся, понимаешь? Гений будто бы послан будущим – он меняет текущее время и выражает в нём уже лишь то, что сам он и преобразил-внедрил, выражает ту новизну, которую сам он принёс.
Беспомощно на неё посмотрел.
– Каюсь, столько всего наплела тебе, что ты, наверное, перепугался? – угадывала его страхи Анюта и круто меняла обыденную тональность на возвышенно-поэтическую, можно было подумать, что сам Надсон поучаствовал в сочинении её вдохновенной и вдохновлявшей речи.
– Если поведёт тебя в солнечную даль умный талант зорких глаз, чутких ушей и отзывчивого сердца, ты непрерывно будешь стремиться к совершенству, и пусть весь мир будет защищать привычную серость, ополчится против тебя, пусть все люди в злую толпу собьются, обстоятельства словно изготовятся исподтишка тебе дать подножку, но ты, упаси боже, не должен почувствовать себя уязвлённым, гонимым, неприкаянным, не должен жертвой себя считать – ты внутренне должен выстоять.
И напряглась, готовясь шагнуть…
– Я, конечно, боюсь, что ты, замкнувшись, уйдя в себя, будешь отрешённо скользить по жизни, будешь нечуток, душевно скуден для других, а богатства внутреннего мира раскроешь лишь для себя одного. Но оставайся самим собой и сам по себе, только при этом не будь, прошу тебя, эгоистом, понимаешь?
Как, как такое понять? Одно ведь исключает другое. Боже, как описать то, что творилось у него в голове…
Шажок и шёпот: «Я не сломлена, я не сломлена, и скажу тебе именно то, что надо сейчас сказать, понимаешь? Снесу яичко к Христову дню».
Ещё шажок.
– Юрочка, я, конечно, главные свои слова растеряла, каюсь, но хоть что-то из того, что я пытаюсь тебе сказать, ты понимаешь? Хочу тебя пожурить: почему ты, Юрочка, так редко спрашиваешь меня – «почему»? И скажи, почему ты вопросами своими, сомнениями своими не остужаешь на каждом шагу мой педагогический пыл?
Вопрос «почему» Германтов на тех прогулках задавал себе, преимущественно себе, и поскольку не мог найти прямых ответов, мысль его привыкала к тупикам, к окольным путям, на коих он и предавался сомнениям… Тогда, видимо, самопроизвольно закладывались основы его специфического мышления.
– Со мною быстро каши не сваришь, я вспомнила, что даже гений, светоч этакий, бывает злым, пакостным, но…
О чём она?
– Я хочу, чтобы ты разбирался в людях. И был к ним снисходительным, даже к тупым и злым людям, ибо тупые Богом наказаны, а злые – не ведают, что их ведёт через жизнь дьявол; даже к порочным, например патологически-жадным, завистливым, людям надо быть снисходительным, а к себе – при всех несравненных достоинствах твоих – требовательным.
«Она разбиралась, – подумал Германтов, – ещё как разбиралась, всех насквозь видела. Да, на косточки разложила гостей Сиверского, пока они шагали по коридору. Может быть, поэтому как-то… Ну да, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать… Как-то презрительно-брезгливо людей, при всей своей деликатности и доброте, любила? Помимо сочетания косточек и хрящей в духовном скелете личности она и всю муть по-чеховски в каждом и во всех сразу видела, все осадки заблудших душ?»
– Кто-то из умных людей, забыла кто, сокрушался по поводу вечной распри старых и молодых, отцов и детей. И это тоже не ересь, учти! То, что Тургенев написал, это ещё цветочки, миленькие усадебные цветочки. Даже я, закоренелая оптимистка, побаиваюсь уже, что поведение молодых, самых вежливых, почитающих родителей молодых, вскоре будет определяться жаждой возмездия, понимаешь? Всякое новое поколение бессознательно мстит старикам за их прошлые, пустые мечтания, обернувшиеся бедой для детей и внуков, за их, стариков, нажитые в трудах и бедах замшелость, заскорузлость и близорукость, но теперь-то, думаю, полный швах. Да, всякое поколение подкладывает следующему за ним поколению историческую свинью. Но я-то признаюсь тебе, что мы навлекли на себя особый позор, мы особенно виноваты, Юрочка, особенно, и я испытываю за вину свою стыд, жгучий стыд, не знаю, куда мне деться – не искупить вину, не загладить: я ведь знала всегда, что лучшее – враг хорошего, даже на носу себе это зарубила, а тоже мир избавить от зла мечтала, разумно хотелось мир исправить и перестроить, ох как хотела и счастливого для всех переворота ждала, не понимая, что силой и кровопусканиями будут насаждать счастье; ждала и инквизиторов – великих и карликовых инквизиторов – дождалась, понимаешь? Из-за нас всех, сверхмечтателей, возжелавших от извечного мирового зла найти сиюминутную панацею, столько дров наломали, кашу кровавую заварили, да ещё так подло обманули всех вас, как раньше – за все минувшие века – никого никто не обманывал. Вы только родились, а уже заранее обмануты были, на много-много лет вперёд обмануты, понимаешь? Мы все так перед вами виноваты, и я, я виновата тоже, mea culpa… – отвела покаянный взгляд.