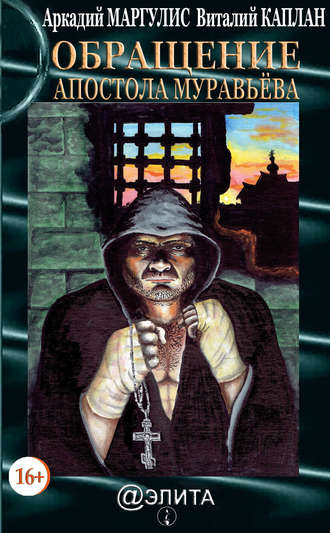
Полная версия
Обращение Апостола Муравьёва
– Вера, ваши ноги отчётливо пахнут рыбой…
– А вы их не нюхайте. Нюхайте лучше мои волосы, вчера я купала их в мыле «Запах Парижской зелени».
– Таки хорошо, что я не карлик и мне не треба нюхать ваши волосы… Скажите только, как поживает наш славный хлопчик…
– Маратка? Бугаёнок? Вы знаете, он таки имеет громадный интерес стать артистом. За ним доглядают соседи…
По Дерибасовской снуют толпы народа. В Аркадию на пляж одна толпа, в порт – другая, в храм или гостиницу – третья. Самая шумная и многочисленная – в центральную синагогу. Из подворотни в суету и скопление тел выныривает «пра-а-а-тивная» парочка. Ноль внимания на толпу. Но не сводят глаз друг с друга. «Нате вам, челомкаются рот в рот, чтоб вы так жили!» – отношение честных граждан благодушное: наказать. Торговки предлагают суд на месте и немедленный расстрел солёным огурцом в зад, точнее, испрося пардону, в ж…у. Опытные фронтовики – изолировать, как вражеских лазутчиков или диверсантов. Евреи, самые умеренные из всех, берутся перевоспитать, вдруг получится. Из-за длительного отсутствия консенсуса парочка исчезает в «Гамбринус», и внимание публики переключается на другой колорит.
Мальчишка лет пяти-шести, не более, прикидывается статуей, набычившись поперёк тротуара. По пояс гол, ноги в драных ботах, в штанишках с заплатами плотного фетра: белой, синей и красной. Рядом жестянка из-под печенья «Ла Скала». Кое-кто из прохожих бросает в коробок монетку, иногда рублик. Ахают, выражая всеобщий восторг: ребёнок – уменьшенная копия Геркулеса. Стан, мускулатура хоть сейчас в музей антропологии. Малец чёрен, как грач, кудрявее барашка, и тих, словно ночная Одесса. Но, окажись в пределах досягаемости подходящая жертва, «статуя» молниеносно оживает. Незримый на ослепительном солнце выпад, и несчастный ротозей падает навзничь.
Всё бы ничего, и можно «проходите мимо, куда шли свой путь», но забияка щедр на затрещины даже детям, фланирующим под родительским присмотром. Взрослые справедливо негодуют, припирают шалопая к стене, но тщетно. Малый бессовестно бесстрашен. В ответ кривляется, плюётся, матерится так скверно, что официанты из «Гамбринуса», выбравшись на перекур, заносят перлы в поминальники для препирательств с пьяной матроснёй.
В конце концов малолетнего хулигана окружают наиболее отважные защитники потерпевших и бывалые свидетели.
– Не дотрагивайся, тебе говорю, он заразный!
– Оставьте, пацан всюду не в себе!
– Он цыган, натуральный цыган… Не видишь? Как почему? У них там табор!
– Забашляй – погадает!
Лаются, но приблизиться вплотную не смеют. Малец тем временем принимает угрожающие позы, демонстрируя мускулатуру. Матерится, наскакивает! Папы и мамы озадаченно робеют. Осторожно ретируются, хотя могут приструнить, скрутить, даже затащить в ближайший участок. Сила и безрассудство во все времена вызывали панику. Так пасовала перед обнажёнными берсеркерами закованная в доспехи рать.
Верх всегда берут нахрапистость и дерзость! Малец, подвывая и гримасничая, выуживает из штанов штрунгель превосходных размеров и направляет в толпу напористую струю. Озадаченный народ шарахается прочь. Шалопай пускается вдогонку, настигает и пинком отправляет на тротуар ближайшего мальца. Подоспевший отец, подхватив на руки огорошенного отпрыска, уносит утешать в сторонку.
Иногда справедливость торжествует – когда Геркулесу встречается столь же клыкастое хамство.
Так рушились древние традиции, порождая легенды. Но окажись поблизости учёный языковед Даль, пословица «Один в поле не воин» вряд ли оставила за собой право существовать.
Насладившись вожделенной победой, маленький забияка задирает голову. Прислушивается: невдалеке куранты вызванивают серебряными молоточками мелодию песни, сладостной всякому одесситу: «Одесса – мой город родной».
Наступает полдень, юный шалопай встречает его изысканным ругательством. Бежит что есть духу, чтобы не опоздать, на ходу опрокидывает в ладонь жестянку, сосредоточенно шевеля губами. Ого! В «Ла Скала» намечается трёшка – «И на маманин заказ, и на потом…». Бюджетный рубль, жалованный мамой Верой поутру, осел в желудке парой сдобных плюшек с изюмом, банкой сгущёнки и шикарным пломбиром на палочке.
Сдачу Марат собирается сохранить, но на углу Ришельевской смешно балагурит мужичок в нелепой для лета, нахлобученной по швы ушанке. Он торгует домашней выпечкой. Достаёт лакомство из закопчённой кастрюли, затем, бережно обмотав бумажным клочком, вручает покупателю. Рядом с очередью глотает слюни сопливая нищета, ей и пятикопеечный пончик – праздник.
Марат вразвалочку огибает очередь и, цыкнув на правильного покупателя, оплачивает оптом шесть пирожков с капустой.
В Одессе дети рано входят в курс дела. В магазин их отправляют лет с пяти. В правилах одесской торговли так и прописано: разрешается отпускать товар ребёнку, если он в состоянии сосчитать самостоятельно, другими словами, получить полную сдачу. Марат умеет, хотя в бакалее тёти Паши строгостей не придерживаются. Сама Павлина, пышногрудая «брунетка» между обеих щёк, блюстительница социалистической законности, денежку у мелюзги берёт аккуратно. Выдаёт сдачу реально всю. Покупатели постарше этой привилегией не пользуются. Продавщица пребывает в уверенности, что приличный покупатель не станет въедливо изучать цены или требовать перевзвешивания товара, он обязан готовить деньги заранее, не мелочиться и быть снисходительным к просчётам торгующей стороны. Узаконено также дожидаться очереди вежливо, не ропща, не выказывая недовольства. При нарушении любого правила мгновенно запускается режим контратаки, состоящий в обвешивании, обсчитывании и облаивании покупателя.
По отношению к детям продавщица, исходя из весомых причин, и впрямь святая. Перво-наперво, мадам Паша имеет сердце, чтобы жалеть малых мира сего. Во-вторых, нехитрый ассортимент бакалеи не меняется годами, даже десятилетиями. Поэтому прижимистая Верка, маманя вундеркинда, всегда твёрдо знает, сколько выйдет сдачи.
Магазин окраинный, тесненький, мадемуазель Вера называет его «райпо». Утром напутствует: «Марат, зверёныш, пойдёшь в райпо за «пожрать», винца портвейнчик возьми. Красненькое утешает жизнь… Не задерживайся, участкового обойди десятой дорогой… Всё осточертело… Тошно… Был бы папик жив…», – в этом откровении она роняет слезу, Марат же по-быстрому выбегает из дому, стыдясь поддержать: батю своего хоть и не знает, но любит крепко.
Вырвавшись во двор, пацан отпускает ругательство, и соседка-дворничиха, сухопарая немка Ляйпнихт – её корят за «фашистскую» кровь – наспех перекрестившись, возмущённо сплёвывает в сторону. Марат намеревается досадить ей штрунгелем, но вовремя спохватывается. Бабка сильна и мстительна, выкрутит заранее лампочку в подъезде, подловит, да ка-а-ак крутанёт ухо – искры сыпанут из глаз.
Ограничившись кривлянием, выбегает вон, не забыв раздавить песчаную башню, вылепленную в песочнице бездельницей Сарочкой. Смуглянка, с досады забыв о школе, гонится за ним, но возле «Гамбринуса» отступается, испугавшись двух пьяных морячков, кожей чернее, чем сама.
Кое-как отдышавшись, Марат испытывает жуткое чувство голода, что и приводит к растрате мамкиных кровных. Благо, в руке «Ла Скала», много раз выручавшая в непростых ситуациях. Безотказный жестяной кошелёк.
В райпо сумрачно, и Марат, попав с солнца во мрак, на время слепнет. Остановиться бы, прижмуриться, дождаться зрения, но нетерпеливая натура не даёт покоя, подталкивая к действию. С трудом различая силуэты, с разбегу влетает в чьи-то ноги. Над головой нависает несравненной величины зад. И вместо того, чтобы извиниться, как следует по-честному, с удивлением возмущается:
– Не приберёте ли свою ж…пень! Я с вас смеюсь…
Она подседает, разворачивается, и вместо обтянутой платьем необъятности на охальнике останавливаются жёлтые, продолговатые и шалые, как у дворовой кошары Навки, глаза. Марат придерживает дыхание, ощущает внутри левой штанины тёплую струйку.
– Ты што шказал, мальтшик? – по-змеиному шепелявит незнакомая тётка. – Мальтшик, а ты грубиян.
Если бы не убойная желтизна глаз, дама бы выглядела безобидно, впрочем, иначе, чем большинство знакомых матрон, и этого Марат объяснить не может. Белое, хоть сейчас к венцу, платье, экстравагантная шляпка с фальшивой фиалкой, и омерзительно жирная на губах помада.
– Скашите пошалуйста, ему не нравится! – снова шипит она, отворачивается, нагибаясь за сумкой, высоко подтягивается к спине подол её платья. Можно не сомневаться – райпо пронизывает аромат резеды. Наверное, нижнего белья мадам не носит, или оно пропадает в складках душистого естества.
У Марата темнеет в глазах, в голове булькает кипяток и пересыхает во рту. Он осматривается. Все в магазине остаются спокойны, будто ничего не происходит. Даже сердитая продавщица продолжает взвешивать сто пятьдесят грамм маргарина. Шепелявая мадам тоже неподвижна, будто статуя восточной девушки, сборщицы хлопка.
Марат осторожно возвращает взгляд. Кажется, уже видел это, но разве упомнишь, где – на картинке, или на пляже нудистов, куда однажды забрёл… Над вертикальным разрезом, делящим дамскую уникальность на две роскошные доли, вырисовывается отросток, и если присмотреться – кажется, не татуировка. Становится жутко. Марат трогает завитушку, вполне натуральный хвостик, его ошеломляющую неоспоримость, вскрикивает и со всех ног пускается вон. Вслед ему несётся: «Убирайся прочь, глупый уродец, вон из ЦУМа!». Литаврами стучит о мостовую двойной башенный хохот.
Наконец, дома. В ознобе стучат зубы, в голове жестокая зыбь. Бросается в постель.
Мама Вера, возвратясь к вечеру, застаёт хворого со сногсшибательной температурой. Вместо званой вечеринки то и дело щупает горячий лоб. Решительно ставит градусник. Последний замер грозит жаром под сорок, но когда она решает проверить градусы в непривычном месте, сынок артачится. Если Марат упирается рогами, значит, настаивать ни к чему. Ничего не добьёшься, только связки надорвёшь. А как торговать на толчке без голоса? Звать участковую поздновато, тащиться в больничку далеко – такси и прочее, промурыжат всю ночь.
Мама Вера вертит в руках четвёртый пакетик аспирина. «Не многовато ли… Ерунда, бугайку аспирин, что слону дробинка, весь в папашку…».
Зажав мальцу нос, дожидается, когда он в удушке раззявит рот и высыпает порошок в глотку. В горле будто барханы, но наготове стакан воды. Пара глотков, и малый откидывается на подушку. Мама Вера мочит в уксусе марлю и лепит страдальцу на лоб. Он вздрагивает, не приходя в себя. На часах под потолком нервная стрелка жмётся к римской цифре, напоминающей два столба. Сутки на своих двоих… Не раздеваясь, припадает к сыну. Охватывает рукой, вторую кладёт себе под голову. Через секунду спит. Спит и снится.
Снится, будто пыльные занавески, охраняющие квартиру с балкона, трепещут в безветрии. Ни луны, ни звёзд, лишь зловеще подмигивает ночник. По стене крадётся окаянная тень. Ворсистый тигр косит с ковра шерстяным глазом, но тут же хитрит, уставившись на сервант. Там не страшно, там привычные фаянсовые фигурки в дозоре за хрусталём. Шевелится занавеска в кладовку. Тень, полого слившись в коридор, задерживается в гостиной подле рухляди – век не играного пианино. Инструмент расстаётся с фальшивым минором, словно икнув. Слева малютка кухня, справа совмещённый санузел – ванная плечом к плечу с унитазом, впереди ситец «заставы», ограждающей спальню. На полке над трюмо сонник Нострадамуса, раскрытый на «больной» страничке: «Видеть во сне безумца – опасность, о ней вы узнаете раньше тех, кому она угрожает, и от ваших действий зависит их судьба».
Вере видится нехороший сон, сумбурный, как страдание сына. Скверно бесцеремонная бабища носится по квартире быстро, как может двигаться секундная стрелка, отсчитывая последний вздох. Бессовестная женщина мечется по квартире, оставляя чёрные метки всюду, чего коснётся. Кроме старого, в тусклом лаке, пианино – оно остаётся незамаранным, вызывая нечистый гнев гостьи. Приблизившись к матери с ребёнком, она останавливается, растворяется на мгновение в воздухе, затем нависает над ними и, словно бичуя, шепчет:
– Думаешь, не имею над ним власти? Очнись, безмозглая Вера, – имя женщина произносит с брезгливой гримасой, и спящей становится за себя обидно.
Спящая Вера точно знает, что спит, иначе, не раздумывая, вцепилась бы ногтями в отвратительную харю. Тень, обмаравшая дом, исчезает, размазывается в пространстве и снова возникает, но уже с другой стороны кровати, над мечущимся в горячке сыном. Только что была здесь, а уже там, рядом с кровиночкой, с её бугаёнком Мараткой. Он как-то сразу обмякает, красивый, горячий, беспомощный. Смотрит жалобно открытыми глазами. Женщина проводит ладонью перед его лицом. Черты разглаживаются, словно происходит разрядка мышц – нижняя губа провисает, поверх выпячивается мокрый, как в малиновом соку, язык. С него на подбородок тянется клейкими побегами слюна. Глаза ползут из орбит, придавая выражению матёрую законченность. Дауны насквозь безмятежны, а тут личина, мать догадывается сразу: трагическая маска улыбаться не может.
Дама хохочет, обнажая буруны подпиленных зубов. Вера пытается проснуться, но сон держит крепко, заставляя наблюдать и осознавать.
Дама вновь проводит ладонь перед лицом Марата. Оно произвольно, хотя и не мгновенно, приобретает осмысленность. Будто ловкий бес заново наполняет тело Марата изъятой, но неприкаянной душой.
«Господи Иисусе…» – пытается прошептать Вера, но губы не слушаются. «Господи…» – упрямится она, и голова её постепенно наполняется святостью: «Господи Иисусе – Господи Иисусе – Господи Иисусе…». Тень останавливается на мгновение, словно к чему-то прислушиваясь. Презрительно рассматривает молящуюся беззвучно женщину, затем небрежно проводит ладонью перед её лицом:
– Оставь, бессовестная… Ты тоже моя холуйка…
Слова гудят, вслед – эхо и заунывный гул. Буквы рассыпаются и складываются в проклятья. Вера теряет нить жизни. Вместо молитвы в голове слышится то гадкое «Навалите», то истеричное «Помесите».
Удовлетворённо хмыкнув, дама щерится и возвращается к мальчику. Вера, чтобы не сойти с ума, пытается запомнить ненавистное лицо, надеясь при встрече разодрать в клочья, но и это оказывается выше сил. Не хватает ни образов, ни сравнений. То, что вначале представлялось неприглядным, но определимым, на поверку оказывается тенями чуждых восприятию фантомов. Отнести их к ассоциациям невозможно, как описать и запомнить тьму, ужаснувшую заживо похороненного человека и очнувшегося в наглухо заколоченном гробу.
Проходит не меньше жизни, и даме наскучивают игры с Маратом. Видно, что-то идёт не так, противоречивые преображения надоедают. Тогда она раздражённо плюёт мальчику в лоб и уходит из сна.
Вера усилием воли заставляет себя проснуться и тут же разворачивает сына к себе. Отирает его взмокший лоб. Звуковая каша в голове, рванув когтями кожу лица, утихает, Вера истово молит напоследок: «Господи, услышь!!!». Боль отрезвляет, Вера трясёт сына, полагая, что застывшая маска – следствие глубокого сна. Марат просыпается на удивление быстро, безразлично смотрит на бьющуюся в истерике мать и затягивает на одной ноте нескончаемое: «Э-ми-ли… Э-ми-ли… Э-ми-ли…». И одуряюще плохой запах. Вера переворачивает мальчика на спину, стягивает штанишки. Так и есть. Её шестилетний сын, казавшийся много старше своего возраста, уделан, чего не происходило, как минимум, лет пять. Уже с десяти месяцев он внятно нуждался в надёжном горшке.
Мать подхватывает сына на руки, вскрикивает, едва не надорвавшись. Он падает на кровать, мыча. Тогда она стаскивает его вниз, на пол, осторожно придерживая за плечи. Быстро, на границе сознания, сворачивает ковёр, ставит в угол, затем тащит парня по начищенному до скользкости паркету. Марат не сопротивляется, позволяя делать с собой что вздумается. На личике сумеречность олигофрена.
Ей везёт: психиатр в районной поликлинике – благообразный и трезвый мужчина на предпенсионной грани. Он живо пресекает разыгравшийся скандал:
– Женщина! – визжит регистраторша. – Сколько раз можно долбить, – только по предварительной записи… Вот бестолковая попалась…
– Слухай сюда, чурка вербованная! Расшнуруй зенки, сыну к доктору треба! – добивается справедливости Вера.
– Семён Витальевич, это всё, это конец… – картинно разводит руки регистраторша, изображая роковой кризис.
Идут молча. Доктор спрашивает сразу, как только Вера, подталкивая сына в спину, попадает в кабинет:
– Обострение?
– Ох…….ное! Лёг спать нормальный, ну – температурка была… И на тебе!
Видно, загубив на борьбу с регистраторшей последние силы, Вера обмякает, сползает на подставленный врачом стул и горько рыдает, пряча лицо в ладони.
Убедившись, что она в порядке, доктор приступает к делу, усадив парня на затёртый диванчик. Для этого приходится придавить мальцу плечи, Марат отказывается понимать, чего от него хотят. Парень выглядит античным многоборцем в миниатюре, университетские интерны могут изучать по нему анатомию. Старый врач, повидавший казусов на своём веку, не суетится, ему некуда спешить. Сторонний наблюдатель нашёл бы его медлительным. При сравнении легко обнаружилась бы несостоятельность молодого коллеги.
Семён Витальевич наливает в стакан свежей воды из графина, он вообще ревниво следит за свежестью. Капает туда двойную, потом, потакая мыслям, тройную дозу валерьянки, поит женщину, и садится за стол в ожидании результатов. Они вскоре сказываются. Всхлипывания становятся реже, затем сходят на нет. Убедившись в её адекватности, Грачевский кротко спрашивает:
– Вы кто, голубушка?
– Верка, – удивившись вопросу, отвечает она, но сразу исправляется, выпрямляя спину, – Вера Андреевна Муравьёва-Апостол…
– Вера Андреевна, – будто задумавшись, бормочет доктор, и представляется со своей стороны: – стало быть… Семён Витальевич… Ну-с, а мальчик?
– Марат… наверное… – отвечает она, всхлипывая.
– Он вам кто?
– Как – кто? Сын!
– Тогда почему «наверное»?
– Ну, просто он таким никогда не был, я ж говорю, вчера заснул нормальным, температура была…
– Так вы говорите, что молодой человек ваш сын? – принципиально уточняет доктор.
– Господь с вами, Семён…
– Витальевич.
– Да, Семён Витальевич, сто процентов – сын.
– Так-так, уже лучше. Где наблюдается бутуз?
– В смысле?
– В каком психоневрологическом диспансере, я интересуюсь, наблюдается ваше чадо?
– Что вы такое несёте, доктор, он нормальный, хоть сейчас в лётчики-космонавты, – Вера заводит прежнюю песню, но Грачевский жестом останавливает:
– Знаете, Вера Андреевна, я вам верю! Я, – доктор подчёркнуто выделяет «я», – верю. Как человек, как мужчина, в конце концов, но как врач и психиатр, простите, увы… Свежо предание… Давайте сделаем вот как, – барабанит он пальцами по столешнице и поднимает телефонную трубку, – Светик, не в службу, а в дружбу, вытащи карточку Маратика Муравьёва-Апостола, – Семён Витальевич вопросительно глядит на мамашу, она услужливо подтверждает:
– Так и есть… Только напрасно…
– Да-да, Муравьёв-Апостол, шести полных лет от роду. Спасибо, золотко, жду.
Пока «Светик» ищет медицинскую карту, доктор тщательно осматривает малыша. Заставляет его пройтись – малый постепенно добирается до стены и останавливается. Оценивая походку и осанку, доктор осматривает лицо и тело. Подносит к глазам мальчика молоточек, медленно водит им, приближает к кончику носа. Мальчик бесстрастно реагирует на то, что вызывает улыбку молодых пациентов. Не обращает внимания на просьбы «наморщить лоб», «поднять брови», «оскалить зубы», «показать язык». Ого, налицо патология – ни одного живого рефлекса. Покалывание иголочкой в симметричных зонах тоже безрезультатно, Марат не замечает боль. Удары молоточкам по сухожилиям не вызывают коленной рефлексии. От глубокого обследования доктор воздерживается: нарушения интеллекта и памяти явные, диагноз не вызывает сомнений.
Работая, Семён Витальевич то и дело бросает взгляд на мать, её горе кажется искренним. «Выраженные кататонические симптомы на фоне психоза движений» – едва слышно бормочет доктор, когда в дверь стучат.
Медицинская карточка Марата обнаруживается скупой на диагнозы. Кроме родовой желтухи, прививок и нескольких респираторных заболеваний, ничего интересного. Парень на удивление здоров. Ни единого упоминания об отставании в развитии или душевном расстройстве. Правда, участковая дама оказывается шибко грамотным доктором. Запись о возможном «нарциссическом расстройстве личности» украшает документ, но Семён Витальевич полагает, что мадам перестаралась в психиатрическом диагностировании. Находить такое расстройство в столь юном возрасте предполагает, как минимум, профанацию. Может ли ребёнок в шесть лет ощущать убеждённость в собственной уникальности? В особом положении и превосходстве над остальными людьми? Вполне вероятно, что пацан испытывает определённые трудности в проявлении сочувствия, но такие незначительные отклонения имеют больше отношения к неправильному воспитанию, чем к патологии. Хотя в любом случае никакое расстройство личности не объясняет нынешнего состояния мальчика.
Мама Вера негромко всхлипывает, Грачевский отрывается от бумаг. Возможно, слишком резко для человека, владеющего ситуацией. Пожилой врач смотрит на часы, снимает очки, неспешно протирает их носовым платком с вензелем «С.В.», собираясь с мыслями. Он задумывается и размышляет чуть ли не с четверть часа. Слишком часто в последнее время случаются выпадения из реальности. Пятнадцать минут на несколько машинописных страниц отчёта – явный перебор.
Собираясь с мыслями, Семён Витальевич то и дело поглядывает сквозь стёкла очков на свет, отыскивая лишь ему заметные соринки.
– Доктор, что с моим сыном? – не выдержав затянувшейся паузы, задаёт Вера ожидаемый и столько же преждевременный вопрос.
Грачевский не готов ответить сиюминутно. В узких кругах он слывёт прекрасным диагностом, даже слишком для районной поликлиники, но тут, как говорится, каждому своё, особый случай.
– Сколько времени температурил мальчишка?
– Сколько? – мама Вера задумывается, – вечер, часов, наверное, пять… Я прихожу, он в кроватке – лобик трогаю, горячий. Ставлю градусник – сорок, как кипяток…
– В подмышку?
– Да… Пытаюсь «туда», он не даёт. Заставляю поглотать аспирина, дожидаюсь…
– Максимальная температура?! – врач спрашивает отрывисто, как на операции.
– Чтоб вы мне жили… Даю ему ещё аспирин, два раза или три, точно не вспомню. Последний раз, кажется, тридцать девять с половиной…
– Кажется ей! Почему не поехали в больницу?
– «В больницу», – передразнила Вера Грачевского. – Кто в больницу с высокой температурой идёт? Обычно как? Пропотеет – и на утро огурчик, гриб после дождя. А тут… – женщина снова плачет.
Стыдится рассказать пожилому и очень добросовестному врачу о страшном сне. Не по чину. И нужно ли?
– Вера, поймите меня правильно, случай архинетипичный. Не хотелось вас пугать, – оба вместе поворачиваются к Марату, он самозабвенно пускает слюни, – современной медицине известны случаи, когда при скандальной температуре человеческий мозг не выдерживает огненной пытки и защищает себя, как может.
– А как он может? – Вера сидит, широко раскрыв глаза, для полноты впечатления не хватает напротив разверстой крокодильей пасти.
– Здоровый мозг ребёнка может многое, реакции у него здоровые. Скажем, попросить маму отвести его в больницу. Наоборот, мозг, объятый пламенем, помышляет лишь о том, чтобы любой ценой спасти организм от краха, пусть даже через умерщвление сознания. Ментальный побег из угрожающей реальности порой не лучший, но вероятный способ выживания. Поясню, – спешит высказаться Грачевский, видя выражение лица собеседницы, – существует вероятность, что сознание мальчика спряталось само в себя. То есть внутри оно всё тот же Марат, но внешне – вовсе другое «существо», уж простите, милочка, за некорректное сравнение. Наружу Марат и носа не сунет, справедливо опасаясь атаки.
– Боится? Меня, матери?
– Вот именно. В первую очередь вас. Такова реальность. К сожалению, ваше лицо последнее, что видел Марат, убегая в себя. Именно вы, как ни парадоксально это звучит, ассоциируетесь у него с болью и страхом.
Некоторое время Вера молчит. Семён Витальевич тоже не спешит, позволяя женщине переварить услышанное.
– Но не стоит заранее волноваться, – понимая, что пауза затягивается, возобновляет беседу врач, – пока это лишь мои предположения, основанные на полученной информации и поверхностном осмотре. Требуются тесты, анализы, осмотры специалистов. Я настаиваю на срочной госпитализации. Не будем откладывать дело в долгий ящик, сейчас же выписываю направление, заверьте его в регистратуре и незамедлительно везите мальчика в диспансер. Простите за вольность, – тотчас поправился Грачевский, – в психоневрологический диспансер… Знаете? На Канатной улице… Неделька-другая – и мы сможем предложить обстоятельную версию.

