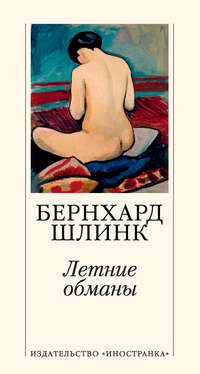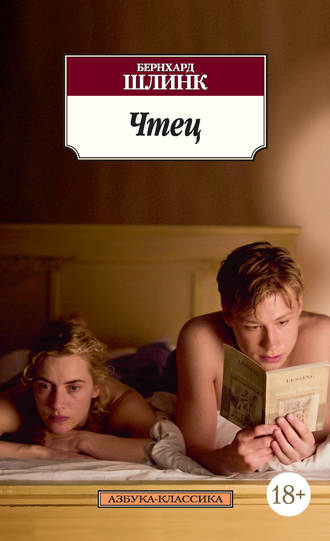
Полная версия
Чтец
Тут я увидел остановку, павильончик среди поля. Я дернул за шнур, с помощью которого кондуктор сообщает вагоновожатому, что надо остановиться или трогаться дальше. Трамвай остановился. Ни Ханна, ни вагоновожатый не обернулись на мой звонок. Когда я выходил из вагона, мне показалось, что они с улыбкой смотрели на меня. Впрочем, я не был уверен. Трамвай поехал, я глядел ему вслед, пока он не скрылся сначала в низинке, затем за холмом. Я стоял между щебеночной насыпью и дорогой, кругом были поля, росли фруктовые деревья, поодаль виднелось садоводческое хозяйство с теплицами. Было свежо. Щебетали птицы. Белое небо над горами зарозовело.
Трамвайная поездка была похожа на дурной сон. Если бы последующие события не запечатлелись в моей памяти с необычайной четкостью, я действительно посчитал бы ее дурным сном. А то, как я стоял на трамвайной остановке, слушал птиц, глядел на восход солнца, походило на пробуждение. Впрочем, пробуждение от дурного сна не всегда приносит с собою облегчение. Иногда, лишь пробуждаясь, осознаешь весь ужас кошмара или то, что во сне тебе открылась ужасная правда. Я пошел домой, из глаз у меня текли слезы, я перестал плакать, лишь когда добрался до Эппельхайма.
Всю дорогу до дома я шел пешком. Раз-другой пытался остановить попутную машину. На полпути меня догнал трамвай. Он был полон. Ханну я не увидел.
Я ждал ее в полдень на ступеньках лестницы перед квартирой, расстроенный, испуганный и разозленный.
– Опять прогуливаешь?
– У меня каникулы. Что с тобой было утром? – Она открыла дверь, я шагнул через порог, прошел за Ханной на кухню.
– А что, собственно, произошло утром?
– Почему ты сделала вид, будто мы не знакомы? Ведь я хотел…
– Я сделала вид? – Она повернулась ко мне, посмотрела на меня, глаза ее были холодны. – Это ты сделал вид, будто не знаешь меня. Вошел в задний вагон, хотя заметил, что я еду в переднем.
– А как ты думаешь, зачем это я в первый день каникул, да еще в половине пятого, решил ехать в Швецинген? Я же хотел сделать тебе сюрприз. Думал, ты обрадуешься. А в задний вагон…
– Бедный мальчик. Встал в половине пятого, да еще в каникулы. – Еще никогда ее голос не звучал с такой иронией. Она качнула головой. – Откуда мне знать, зачем ты едешь в Швецинген? Откуда мне знать, почему ты меня узнавать не желаешь? Это твое дело. А теперь – ступай.
Даже не могу передать, до чего я возмутился.
– Это нечестно, Ханна. Ты же поняла, не могла не понять, что я хотел поехать с тобой. Как же ты могла подумать, будто я не желаю тебя узнавать? Разве я в таком случае поехал бы с тобой?
– Оставь меня в покое. Я тебе уже сказала, что все это твои дела, меня они не касаются. – Она встала так, что кухонный стол оказался между нами; ее глаза, голос, жесты гнали меня прочь, будто я был незваным гостем.
Я сел на кушетку. Она поступила со мной плохо, я хотел заставить ее объясниться. Но у меня ничего не получилось. Наоборот, она сама накинулась на меня с упреками. Я почувствовал неуверенность. Может, она по-своему права? Может, она и должна была посмотреть на все это именно так, а не иначе? Может, я невольно, совершенно того не желая, обидел ее?
– Мне очень жаль, Ханна. Глупо как-то все получилось. Я не хотел тебя обидеть, а вот вышло, похоже, что…
– Похоже? Похоже, по-твоему, что ты меня обидел? Да не можешь ты меня обидеть, только не ты. Уйдешь ты наконец? Я устала, хочу вымыться, хочу отдохнуть. Оставь меня в покое.
Она вопросительно взглянула на меня. Я остался сидеть на кушетке, тогда она пожала плечами, отвернулась, пустила воду в ванну и принялась раздеваться.
Я встал и ушел. Мне казалось, что я ушел от нее навсегда. Но уже через полчаса я вновь стоял перед ее квартирой. Она впустила меня, и я взял всю вину на себя. Да, был глуп, эгоистичен, бессердечен. Да, обидел ее. Нет, не обидел, потому что мне ее обидеть никогда не удастся. Не мог ее обидеть, потому что она мне этого никогда не позволит. В конце концов я был счастлив, так как она призналась, что все-таки обиделась. Значит, она только делала вид, будто совсем уж безразлична и безучастна по отношению ко мне.
– Ты меня простила?
Она кивнула.
– Ты любишь меня?
Она опять кивнула.
– Ванна еще полная. Давай-ка я тебя искупаю.
Позднее я спрашивал себя, не оставила ли она воду нарочно, так как знала, что я вернусь. И не принялась ли она нарочно раздеваться, так как знала, что это засядет у меня в голове и заставит возвратиться. Не хотела ли просто выиграть эту игру, чтобы показать свою власть надо мной. Мы занимались любовью, потом просто лежали рядом, и я рассказывал ей, почему вошел в задний, а не в передний вагон, она поддразнивала меня: «Ты и в трамвае готов этим заниматься? Ах, малыш, малыш!» Словом, повод для нашей размолвки вроде бы потерял всякое значение.
Однако значимым остался итог. Я просто проиграл тогда. Краткого столкновения, угрозы оказаться отвергнутым было вполне достаточно для моей капитуляции. В последующие недели я даже не пытался бороться. Я безоговорочно капитулировал при малейшей угрозе с ее стороны. Я тотчас принимал на себя любую вину. Признавал ошибки, которых не совершал, раскаивался в намерениях, которых никогда не имел. Когда она проявляла суровость, холодность, я начинал умолять ее все простить и снова любить меня. Иногда мне чудилось, что она сама страдает от собственной холодности и суровости. Что ей хочется тепла, пусть даже оно проявляется в виде извинений, просьб, увещеваний. А иногда мне казалось, что ей просто нравится властвовать надо мной. Так или иначе – выбора мне не оставалось.
Я не мог поговорить с ней об этом. Разговор о наших ссорах привел бы лишь к новой ссоре. Пробовал сочинять ей длинные письма. Но она на них никак не отвечала, а когда я задал прямой вопрос, сказала только:
– Опять начинаешь?
11
Не скажу, что после того первого дня пасхальных каникул мы с Ханной не были счастливы. Наоборот, мы никогда раньше не чувствовали себя такими счастливыми, как в эти апрельские дни. При всех странностях нашей первой размолвки и вообще наших размолвок все остальные части нашего обычного ритуала – чтение вслух, душ, занятие любовью, разговоры в постели – действовали на нас благотворно. Кроме того, она сама загнала себя в ловушку упреком, будто я сделал вид, что не знаю ее. «Ты не хотел, чтобы нас видели вместе», – этого ей говорить не следовало. Сразу после Пасхи мы уехали с ней на четыре дня на велосипедах в Вимпфен, Аморбах и Мильтенберг.
Уже не помню, что я наврал родителям. Сказал, будто еду с моим приятелем Маттиасом? Выдумал групповую экскурсию? Или сказал, что собираюсь навестить бывшего одноклассника? Вероятно, мать, как всегда, беспокоилась, а отец, как всегда, говорил ей, что для беспокойства нет причины. Разве я не закончил с успехом учебный год, чего от меня никто не ожидал?
За время болезни я не тратил карманных денег. Но их все равно бы не хватило, чтобы платить в дни поездки за Ханну. Пришлось отнести мою коллекцию марок в филателистический магазинчик возле церкви Святого Духа. Это был единственный филателистический магазин, на дверях которого висело объявление о покупке коллекций. Хозяин полистал мои альбомы и предложил шестьдесят марок. Я обратил его внимание на гордость моей коллекции, прямоугольную египетскую марку с пирамидой, стоившую по каталогу не меньше четырехсот марок. Хозяин лишь пожал плечами. Если я так дорожу коллекцией, лучше оставить ее у себя. Кстати, имею ли я вообще право ее продавать? Что скажут родители? Я пробовал торговаться. Если марка с пирамидой не такая ценная, я оставлю ее себе. Но за альбомы без нее хозяин давал всего тридцать марок. Значит, она все-таки ценная? В конце концов я получил семьдесят марок. Чувствовал, что обманут, но мне было все равно.
Накануне поездки волновался не только я. К моему удивлению, Ханна за несколько дней до нашего путешествия тоже занервничала. Она принялась собирать вещи, упаковывала и опять распаковывала велосипедную сумку и рюкзак, которые я ей достал. Я пытался объяснить ей по карте придуманный мною маршрут, но она не захотела ни слушать объяснений, ни смотреть на карту. «Я сейчас слишком волнуюсь. Ты уж сам разберись, малыш».
Мы выехали в пасхальный понедельник. Светило солнышко, оно светило нам все четыре дня. Утром было прохладно, зато днем теплело – становилось не слишком жарко для велосипедной прогулки, но достаточно тепло для пикников. Леса казались зеленым ковром с просветами, пятнами, прогалинами всех оттенков этого цвета от желтоватого до салатного, сине-зеленого и темно-зеленого. В долине Рейна уже цвели первые фруктовые деревья. В Оденвальде распустились розы.
Довольно часто нам удавалось ехать рядом. Тогда мы показывали друг другу то, что открывалось по сторонам: старый замок, рыбаков с удочками, плывущий по реке пароход, туристскую палатку, растянувшееся гусиным маршем по берегу семейство, шикарный американский лимузин с открытым верхом. На развилках дорог я уезжал вперед. Она не хотела разбираться с определением маршрута. В остальном же, особенно если движение на шоссе становилось интенсивным, мы чередовались – иногда я ехал за ней, иногда она за мной. У нее был велосипед с металлическим кожушком, который закрывал шестеренку передач и часть цепи. На ней было синее платье с широкой юбкой, которая плескалась на ветру. Мне понадобилось некоторое время, чтобы перестать беспокоиться, что она упадет, если платье зацепится за спицы или шестеренку. Потом мне даже нравилось, когда она ехала впереди.
Как я ждал этих ночей. Я мечтал, что мы будем любить друг друга, засыпать, просыпаться, опять любить, снова засыпать и вновь просыпаться, каждую ночь. Но проснулся я только однажды в первую ночь. Она лежала спиной ко мне, я склонился над ней, поцеловал, она повернулась на спину, приняла и обняла меня. «Малыш мой». Я заснул на ней. Потом мы спали ночи напролет, утомленные дорогой, ветром и солнцем. Мы любили друг друга утром.
Ханна предоставляла мне выбирать дорогу. Я же выбирал и гостиницы для ночлега, регистрировал нас матерью и сыном, ей оставалось лишь расписываться; даже меню я заказывал не только себе, но и ей. «Мне нравится, когда можно самой ни о чем не беспокоиться».
Единственная наша ссора произошла в Аморбахе. Проснувшись рано утром, я потихоньку оделся и вышел из комнаты. Мне хотелось принести ей завтрак в номер, а заодно посмотреть, не открылась ли поблизости цветочная лавка, где можно было бы купить для Ханны розу. На всякий случай я оставил на ночном столике записку. «Доброе утро! Пошел за завтраком, скоро вернусь». Или что-то в этом роде. Когда я возвратился, она стояла в комнате с бледным лицом, полуодетая, дрожащая от гнева.
– Как ты мог уйти, не предупредив?
Я поставил поднос с розой и завтраком на стол, хотел обнять ее.
– Ханна…
– Не трогай меня.
В руках у нее был узкий ремешок, которым она подпоясывала платье; она сделала шаг назад, размахнулась и ударила меня ремешком по лицу. Я почувствовал кровь на губе. Больно не было. Я только ужасно испугался. Она размахнулась снова.
Но на этот раз она меня не ударила. Рука ее повисла, ремешок выпал, она заплакала. Я никогда еще не видел ее плачущей. Лицо ее расплылось. Широко раскрытые глаза, раскрытый рот, веки сразу же опухли, на щеках и на шее выступили красные пятна. Послышались какие-то всхлипывающие, гортанные звуки, похожие на сдавленный крик, который она издавала, когда мы занимались любовью. Она стояла и смотрела на меня сквозь слезы.
Мне надо было бы обнять ее. Но я не мог. Я просто не знал, что делать. У нас дома никто так не плакал. И никто не бил – ни рукой, ни тем более ремнем. Дома при ссорах пытались объясниться. А что я мог тут сказать?
Она сделала два шага, бросилась мне на грудь, принялась бить кулачками, затем вцепилась в меня. Теперь я мог обнять ее. Ее плечи вздрагивали, она уткнулась лбом в мою грудь. Наконец она глубоко вздохнула и прижалась ко мне.
– Будем завтракать? – Она откинула голову. – Боже мой, малыш, ну и вид у тебя. – Своим мокрым платком она вытерла мне губы и подбородок. – Вся рубашка в крови. – Она сняла с меня рубашку, затем брюки, потом разделась сама, и мы снова любили друг друга.
– Что с тобой случилось? Почему ты разозлилась?
Мы лежали рядом, такие умиротворенные и такие счастливые, что я думал – сейчас она мне все объяснит.
– Как – что случилось? Вечно у тебя глупые вопросы. Нельзя же уходить без предупреждения.
– Но ведь я оставил тебе записку…
– Записку?
Я сел. На ночном столике, куда я положил записку, ее уже не было. Я встал, поискал записку под столиком и рядом, под кроватью, в кровати. Записки нигде не было.
– Ничего не понимаю. Я оставил тебе записку, что пошел за завтраком и скоро вернусь.
– Разве? Не вижу никакой записки.
– Ты мне не веришь?
– Я бы поверила, но записки-то нет.
Больше мы не спорили. Может, записку ветер сдул и она где-нибудь затерялась? Неужели все это было просто недоразумением – ее ярость, моя разбитая губа, ее страдальческое лицо, моя беспомощность?
Может, надо было все-таки найти записку, которая стала причиной ярости Ханны, причиной моей беспомощности?
– Лучше почитай мне, малыш!
Она прижалась ко мне, а я достал книжку Эйхендорфа «Из жизни одного бездельника» и раскрыл ее там, где мы закончили в последний раз. «Бездельник» читался лучше, чем «Эмилия Галотти» или «Коварство и любовь». Ханна слушала меня с напряженным вниманием. Ей нравились стихи, вкрапленные в прозаический текст. Нравились все эти переодевания, интриги, приключения, которые выпали в Италии на долю героя. Правда, она осуждала его тунеядство, то, что он не работает, ничего не умеет и ничему не хочет учиться. Ее обуревали противоречивые чувства, но сама история увлекала, и она могла через несколько часов после чтения вдруг спросить: «Значит, таможенник считался плохой профессией?»
Рассказ о нашей ссоре опять получился таким подробным, что надо дополнить его рассказом о нашем счастье. Ссора сблизила нас. Я увидел ее плачущей, и эта Ханна была мне ближе, чем та Ханна, которая всегда была сильной. Она открылась мне со своей нежной стороны, которая прежде была мне неведома. Она все время разглядывала мою разбитую губу и ласково прикасалась к ней, пока губа не зажила окончательно.
Теперь мы и любили друг друга иначе. Раньше я уступал инициативу ей, она владела мною. Потом и я научился владеть ею. Во время нашей поездки это чувство владения пропало и уже больше не появлялось.
У меня сохранилось стихотворение, написанное тогда. Стихотворение так себе. Я увлекался в ту пору Рильке и Бенном, и сейчас мне отчетливо видно мое подражательство. Но вижу я и то, как близки мы были с Ханной тогда друг другу. Вот эти стихи:
Мы открываемся друг другу,ты мне и я тебе,мы погружаемся друг в друга,ты в меня, я в тебя,мы растворяемся друг в друге,ты во мне, я в тебе.Только в эти мгновеньяя – это я,ты – это ты.12
Если я и забыл, что именно врал родителям, чтобы совершить поездку с Ханной, то хорошо помню, какую цену мне пришлось заплатить, чтобы остаться дома одному в последнюю неделю каникул. Теперь уж я и не знаю, куда собрались тогда уехать родители, старший брат и старшая сестра. Проблема заключалась в младшей сестре. Предполагалось, что она отправится пожить в семье своей подруги, но поскольку я оставался дома, то и она решила остаться. Однако родителям это не понравилось. Тогда пришлось и мне говорить, что я буду жить в семье приятеля.
Оглядываясь назад, не могу не подивиться великодушию моих родителей, которые позволили мне, пятнадцатилетнему, остаться дома одному на целую неделю. Может, они почувствовали ту самостоятельность, которая окрепла во мне благодаря встречам с Ханной? Или же решили, что раз уж я, несмотря на затяжную болезнь, сумел успешно закончить учебный год, то стал ко всему относиться ответственнее, а потому заслуживаю большего доверия, чем прежде? Кстати, не припоминаю, чтобы они требовали у меня отчета за многие часы отсутствия, которые я проводил у Ханны. Судя по всему, они довольствовались предположением, что я, наконец выздоровев, хотел побольше заниматься с друзьями, пообщаться с ними. Кроме того, четверо детей – это же целая орава, тут внимание родителей не может уделяться всем сразу, а сосредоточивается на том ребенке, который на данный момент требует больше всего забот. Я слишком долго обременял моих родителей заботами, поэтому они почувствовали значительное облегчение, когда я выздоровел и перешел в следующий класс.
Я спросил сестру, чего она хочет от меня за то, чтобы я остался один, а она отправилась бы к подруге; она сказала – джинсы (мы тогда называли их «блюджинсами») и бархатный пуловер. Желание вполне понятное. Джинсы еще считались чем-то особенным, шикарным, к тому же ей до смерти надоели костюмы в елочку и платья в крупный цветок. Ведь если мне приходилось донашивать дядины вещи, то она донашивала после старшей сестры. Вот только денег у меня не было.
– А ты укради! – Младшая сестра равнодушно взглянула на меня.
Все вышло на удивление просто. Я перемерял несколько пар, захватил в кабинку и джинсы ее размера, засунул их за пояс моих широченных брюк и вынес под пиджаком из магазина. Пуловер я украл в универмаге. Накануне мы зашли с сестрой в отдел модного готового платья, осмотрели несколько секций, выбрали пуловер. На следующий день я решительным шагом прошел по отделу, схватил пуловер, сунул его под пиджак и выскочил на улицу. В тот же день я украл для Ханны шелковую ночную рубашку, меня заметил охранник универмага, я бросился бежать что было сил, едва ноги унес. Потом я несколько лет не решался зайти в этот универмаг.
После тех ночей, которые мы провели вместе во время нашего путешествия, я каждую ночь скучал по Ханне, мне хотелось почувствовать ее тепло, прижаться животом к ее ягодицам, грудью к ее спине, положить руку на ее грудь, мне хотелось, проснувшись ночью, нащупать ее рукой, коснуться ногами ее ног, уткнуться лицом ей в плечо. Неделю дома один – это целых семь ночей вместе с Ханной.
Как-то вечером я пригласил ее к себе на ужин. Она ждала на кухне, пока я возился с последними приготовлениями. Стояла в проеме между столовой и гостиной, пока я накрывал на стол. Сидела за круглым столом на том месте, которое обычно занимал отец. Оглядывалась по сторонам.
Ее внимательный взгляд скользил по нашей мебели в стиле бидермайер, по роялю, по старинным напольным часам, по картинам, книжным полкам, по сервизу и столовым приборам. Вернувшись с кухни, куда я ходил за десертом, за столом я ее не застал. Пройдясь по комнатам, она остановилась в отцовском кабинете. Я потихоньку смотрел на нее, прислонившись к дверному косяку. Взгляд ее блуждал по книжным полкам, занимавшим всю стену, словно она читала какой-то текст. Шагнув к одной из полок, она подняла на уровень груди правую руку и медленно провела указательным пальцем по корешкам книг, затем шагнула к следующей полке и вновь провела пальцем по книжным корешкам, касаясь каждого из них; так она обошла весь кабинет. У окна она остановилась, вглядываясь в свое отражение и отразившиеся в стекле книжные стеллажи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.