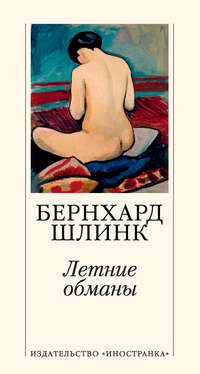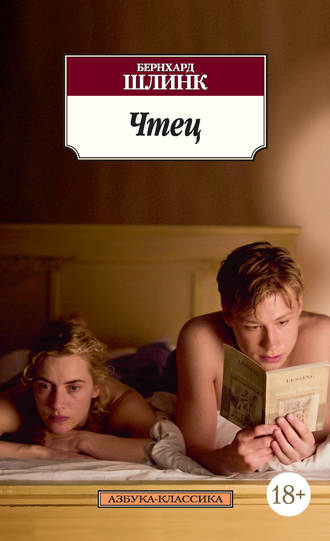
Полная версия
Чтец
– Возьми-ка шампунь и вымой голову. Сейчас принесу полотенце. – Она открыла платяной шкаф, потом вышла из кухни.
Я вымылся. Вода сделалась грязной, пришлось заново наполнить ванну, сполоснуть под струей голову и лицо. Я лежал, слушая, как гудит нагреватель, чувствуя тепло воды и холодок на лице, который шел от приоткрытой кухонной двери. Мне было хорошо. Это как-то возбуждало меня, и член мой встал.
Я не заметил, как она вошла на кухню, и увидел ее уже только у ванны. Она держала перед собой растянутое полотенце.
– Подымайся!
Вылезая из ванны и выпрямляясь, я повернулся к ней спиной. Закутав меня сзади с головы до ног, она насухо вытерла меня. Потом полотенце скользнуло вниз. Она подошла ко мне так близко, что я почувствовал спиной ее грудь и ягодицами ее живот. Она тоже была голой. Одну ладонь она положила мне на грудь, а другую на мой возбужденный член.
– Так вот почему ты пришел.
– Я… – Я не знал, что сказать. Не мог сказать «да» и не мог сказать «нет». Я повернулся. Увидел немного. Мы стояли слишком близко друг к другу. Но меня сразила сама ее нагота. – До чего ты красива!
– Не говори глупостей, малыш. – Она засмеялась, обняла меня за шею, я тоже обнял ее.
Я боялся прикоснуться к ней, поцеловать, боялся, что слишком мал для нее. Но когда мы немножко постояли так, обнявшись, и до меня дошел ее запах, тепло и сила ее тела, то все остальное совершилось само собой. Я блуждал по ее телу руками и ртом, потом наши губы встретились, наконец ее лицо взошло надо мною, мы глядели в глаза друг другу, пока я не содрогнулся, сначала закрыл глаза, пытаясь сдержаться, а затем вскрикнул так громко, что ей пришлось зажать мне рот ладонью.
7
Той же ночью я влюбился в нее. Сон был неглубок, я томился без нее, она мне снилась, мне казалось, будто она со мной, но потом я понимал, что держу в руках подушку или одеяло. Губы болели от поцелуев. Возбуждался член, но мне не хотелось удовлетворять себя самому, я вообще решил никогда больше не делать это сам. Мне хотелось быть с ней.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.