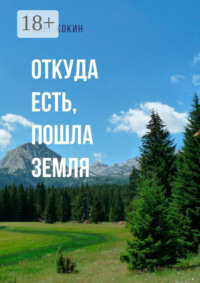Полная версия
Приключения Фора и Сандра
У остальных, понятное дело, от таких новостей рты шире открылись, вот тебе и Сашка – Заяц, вот тебе и простой пастух. Хоть и непростую беглянку, да и с двумя детьми, а вот какой доброй души человек оказался, и в дом к себе поселил, и кормил, и поил, и тайну хранил. Да над ним не смеяться, а молиться на него надо. Григорьевич хлопнул ладонью по столу, привлекая к себе внимание: – Ну-ка, Колюшка, повтори еще разок. – И многозначительно постучал указательным пальцем по своей кружке. Николай, услыхав такое свое имя, даже подпрыгнул на лавке. Мухой поднял четверть над кружками, налил каждому вровень, вроде бы и с пьяных глаз наливал, но рука кузнеца не дрогнула, на стол ни капли не пролил. С Сашки-Зайца люди, сидящие за столом, перевели свой взгляд на Григорьевича, что-то ещё скажет. – Ну, что рассматриваете, как будто я писаная красавица? – оглядывая каждого по очереди за столом, молвил Григорьевич, приподымая наполненную кружку, – Повиниться, хочу, если уж не перед своей Дарьей, то хоть перед людьми своими, был грех, сошелся я в Неаполе с одной итальянкой. Ну да ладно выпьем, здоровья всем. – Прервался Григорьевич и молодецки опрокинул содержимое кружки в широко распахнутый рот. Кашлянул: – Кха – а. Аппетитно захрустел солёным огурцом. Остальным открывать рты не было надобности, как сидели молча с открытыми ртами от услышанного, так и выпили молча и закусили тоже все огурцами. Прожевавши огурец, Григорьевич продолжал: – И встречались то мы с ней, всего ничего, дней десять, не более. Ан запомнила дева, что ей про родину свою говорил. И кем работать буду, тоже запомнила. И ведь сказал просто так, не подумавши, про Загряжье, про управляющего именьем помещиков Чичериных. Да, судьбу не обманешь. Так что, оказывается, дай бог, конечно, внучка это моя. Как ты говоришь Сашка, имя – то её? – Лизавета – дрогнувшим голосом отвечал Сашка. – Это ж надо, как моя дочь угадала с именем моей внучки, а про Жанну моя Александра мне так и сказала, будет парень, назову Пьером, как тебя, а будет девочка, назову Жанной. Видишь, так и назвала. – Со слезами в голосе, но с гордостью пьяного человека закончил изливать душу Григорьевич, и встал из-за стола. – Про меня вы теперь почти всё знаете, а вот про …, – тут Григорьевич прикусил себе язык, – так, Никифор и Сашка, проводите-ка меня к моей внучке, хочу с ней потолковать. Знал, знал и видел, в каких отщепенцев и презираемых высшим светом неблагонадежных людей превращаются преуспевающие и родовитые купцы и дворяне. Да что там, дворяне – князья и графы, что своим поведением и дружеским отношением к низшему сословию, к этому быдлу, ставили себя вровень с ним и все свое существование превращали в сущий кошмар. Поэтому, про то, что он в свое время стал крестным отцом новорожденного мальчика Никифора у Ефима и Даши Ненаших, ввиду душевной прихоти, или лучше сказать, назло надменным барам, для поддержания молодой пары новых холопов, которых в числе многих привез барин с севера, сейчас он не стал распространяться. Тем более, Ефимская Дашутка своим молодым видом и лицом, напоминала ему безвременно ушедшую от него ласковую суженую. Бабы опять забегали, заохали, в четыре руки, как отца родного одели, Григорьевичу только шапку нахлобучить осталось и бадик взять в левую руку. Сашка и Никифор уже одетые стояли около двери. Вышли вместе, как можно проворнее, чтобы не остужать избы.
На дворе стояла тихая морозная январская ночь. Ночь была светлой от ярко светившей круглой луны, от разбросанных по всему небу мириадов звезд, которые были то яркими, то еле видными. Млечный путь опоясывал небо светлым поясом сияющих звезд. Ярко пылала Полярная звезда над ковшом Большой Медведицы.
– Вот, салаги, смотрите, по этим звездам мы с адмиралами Ушаковым и Сорокиным по морям в Европах ходили, – остановился через три шага от дверей и задрал голову вверх Григорьевич. Чтобы не упасть, опирался на руки ставших по обе стороны парней. – Ох, ну и ночка, хороша, черт её дери. Ты Сашка молодец, что сохранил эту историю в тайне. И что сказано в избе, вам обоим и вашим родным советую не разглашать по деревне и округ неё. Внятно объясняю или как? – Уже совершенно трезвым голосом спросил парней Григорьевич. – Поняли, понятно, чего уж там… – вразнобой, но уверенно, за себя и своих родных отвечали Никифор с Сашкой, а далее в один голос спросили: – Ну, что, идём, Петр Григорьевич? – Пошли потихоньку, эх, зря я санки – то с вороным с барской конюшни не заказал, вернее, домчались бы. – Уже тише на полтона посетовал Григорьевич. Сашка, из-за выпитого и вновь открывшихся обстоятельств о найденных родственниках Григорьевича, почувствовал себя на миг вровень с положением управляющего и, твердо так, проговорил: – светиться Вам перед обществом в этом деле не надо. А дойти и так дойдём, да и скотину по такому морозу поберечь не грех, – кивнул головой Никифору, они крепче ухватили под руки управляющего и зашагали по краям тропинки (по тропинке – то Григорьевич шёл) к избе Сашки-Зайца на самую околицу деревни. – Вам, видать, судьбой определено всю жизнь рядом друг с дружкой быть. Вот и старшина села Аннинского у меня недавно был. Сказывал, мол, вас двоих через месяц в рекруты забреют и что барыне хочет ходатайствовать за вас. Я дал добро. – Как размеренно шагал потихоньку, так размеренно и говорил Григорьевич, попеременно поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Сашка пожал плечами, что, наверное, означало, что против судьбы не пойдешь. Никифор, напротив, помолчав немного, сказал с затаённой тоской: – Что ж, раз надо значит надо. Мы согласны. Григорьевич притормозил чуть и остановился. Повернулся всем корпусом к Никифору, – Нюни – то не распускай, у вас с Аринкой должна быть жизнь долгая и счастливая, поэтому весело смотри вперёд, а вот то, что я сейчас скажу, знать обязаны только вы двое и никто другой. Убедившись, что слушавшие его парни внимают ему также как и за столом, открыв рты, то есть внимательно, Григорьевич свободной рукой поднял им по очереди подбородки, чтобы те закрыли рты, и только затем продолжил, – не любят местные помещики, да и остальные чиновники наши, пришлых людишек, то есть немцев- иноземцев, да еще и не дай бог, что они вдруг будут умнее их. Эта нелюбовь пошла еще от Петра – Императора, когда иноземцу, будь он плох или хорош, оказывались высокие почести, а нашим богатым неучам кукиш с маслом показывали. А твоя фамилия какая, а Никифор? Ненаший. Вот ведь какую вредную фамилию твоему отцу дали наши помещики. Не наш твой отец Ефим был и ты не наш для них, а чужой. А он-то был сыном своего отца, твоего деда. А у деда фамилия была Рин. Хорошая такая фамилия, правда, французская. А почему твоему отцу фамилию поменяли? А? Отвечу, да потому, чтобы он был мужиком непомнящим своего родства. Твой отец и был таким, который ничего не знал и не помнил. Потому и сгинул ни за что, ни про что. Ты будешь знать всё про себя. Я так решил. Дед-то твой с Наполеоном, с войной, к нам в Россию пришел. Ну, так, после их побед над нами и у нас победы пошли над ними. А зима была ну такая вот, как и сейчас, морозная. А когда у нас зимы мягкие были. Да никогда. Сильно мерзнуть стали солдаты французские. Не по ним здешний климат оказался. Да, многия тысячи французов утекло обратно в Европу. Нет, конечно, нам тоже доставалось и от зимы и от командиров наших и от солдат этих французских. Только мы русские, народ отходчивый. Когда солдаты наполеоновские ротами и полками в плен стали сдаваться, задумались наши командиры, а что с ними делать, все-таки люди тоже и не воюют уже ни с кем. И доложили обо всём батюшке – царю. А тот созвал совет, да и решили на нём, чтобы всем пленным в России оставаться и что порушили на земле русской, то восстановить за их счет и за их жизть. А так как и своих нахлебников, то есть всю Россию – матушку, кормить надо, то определили пленным выдавать пансион из царских денег, за которые они и жить и питаться должны были, но только определенное время какое-то. А потом они уж работать должны были и сами себя прокармливать. Вот так и появился у чухонцев вольный поселенец. Фамилия у него была Рин, а звать – то, я и запамятовал, как звали его. Ну, а потом сошелся с одной крепостной, бабушкой твоей Еленой. О, вспомнил, как звали деда твоего, Лотом, а жену свою он Эленой звал. Точно. И это, скажу я вам, правильно, что их мужиков никуда не отсылали и не убивали, потому как наших – то мужиков и не осталось в волостях и деревнях. Почитай больше половины кормильцев на войны рекрутировали, а где и всех подряд. Половина там и полегла. Так – то вот. Ого, пока лясы точили и до твоей избы дошли, Сашка. Ну, хозяин, веди в свои хоромы. – Григорьевич остановился, кинул быстрый взгляд вдоль улицы и подтолкнул Сашку к дверям его скособоченной избы. Никифор после неторопливой ходьбы по ночной улице еле поспевал за Григорьевичем и Сашкой, так сноровисто они наподдали, спеша к дверям Сашкиной избы. Залетели в избу, как будто вихрь ворвался. Сашка мотнул головой Никифору, мол, помогай. Усадили Григорьевича в красный угол, под образа. Образа, хотя и освещенные в церкви, а малёванные самим Сашкой были. Была у пастуха дополнительная статья дохода, потому как, мог похоже изображать срисованное с картинки. Так, что отец Володимир частенько привлекал Сашку, вначале за одну только похлёбку поповскую, перерисовывать иконы, по его словам, делать копию. Григорич об этом знал точно, тем более от самого Сашки, поэтому, крестясь на образа, не удержался и хмыкнул. В избе было теплее, чем на улице, но очень прохладно по сравнению с Ненашенской избой.
Лизавета, прилегшая на печь с дочкой и маленьким сынишкой спать, так и не дождавшись Сашку с попойки, как она называла всяческие его улетучивания по поводу опрокинуть стаканчик, взметнулась с печи сразу же, как только стукнула входная дверь. Стоя на ногах, уже обутых в подшитые валенки и судорожно кутаясь в наспех накинутый на плечи толстый шерстяной платок, она в сумрачном свете качнувшегося огонька лучины вначале увидела Сашку, и хотела его отругать за столь позднее возвращение. Но с удивлением, и вдруг охватившем её всю тревожным ожиданием, увидела чисто одетого старого человека блеснувшего на неё пронзительным молодым взглядом и Никифора Ненашего, споро закрывавшего дверь за вошедшими. Молча, пребывая в недоумении, она наблюдала за устройством старого, но крепкого старика с белой бородой, за столом. За тем, с каким подобострастием её укрывальщик – Сашка бухнул на стол вытащенную из его секретных мест гарнец со спиртным и вытянул из печи маленький чугунок с разопревшей тыквой, который также поставил на стол. Расставил
глиняные кружки по количеству присутствующих взрослых людей. То есть и на неё, на Лизавету, оказалась кружка для питья. Она ещё ничего совершенно не понимала, а Сашка уже подталкивал её занять место за столом, по правую руку сидящего во главе стола старика. Усевшись на краешке скамьи, она подняла глаза на вставшего старика, который держал в правой руке уже наполненную неугомонным Сашкой кружку с самогоном. Тот говорил, что вот они и свиделись, дед и внучка, что она молодец, женщина с характером, как и её бабка Александра. Осознав вышесказанное, Лизавета от избытка чувств потеряла сознание. Очнулась она в объятиях этого крепкого старика, который пересел на её лавку и теперь нежно поглаживал непокрытую голову Лизаветы своей огромной и грубой ладонью. Эта ладонь и эта ласка напомнила Лизавете неуловимо знакомое и щемяще-радостное настроение, когда она в детстве, наигравшись в догонялки с детьми слуг в замке у бабушки Александры и устав так, что еле дышала, также сидела рядом с ней, а та нежно поглаживала ей голову и тихо напевала неаполитанские песни. Ощущая необыкновенный душевный подъем и пьянящую радость в груди и во всём теле, Лизавета коротко вздохнула и отстранясь немного от старика, преданно и с надеждою глядя на него, полувопросительно, полуутвердительно произнесла по – итальянски: – Так Вы мой дедушка Пьер? Григорьевич и в молодости слабо разбиравшийся в иностранной речи и сейчас бы ничего не понял из произнесенного, но так как слова были произнесены его внучкой, то голос крови помог ему понять, о чем она его спрашивает. – Да, да моя родная, да ясынька моя! -Воскликнул Григорьевич каким – то помолодевшим голосом, и поцеловал её в лоб. Всё также крепко прижимая к себе свою внучку, в другую руку взял отставленную при пересадке кружку и провозгласил: – Ну, стало быть, за встречу! – Чокнулись не вставая. Что было налито, то было выпито. Лизавета, уже очнувшаяся от пережитой радости встречи и узнавания, ласточкой летала между столом, печкой и кадушками с солениями, добавляя к нехитрой выставленной закуске все имеющиеся у Сашки и неё запасы продовольствия. Плохого в мире много, но и хорошее тоже иногда случается. Понятное дело, при парнях, Григорьевич особо не расспрашивал Лизавету, а та наученная горьким жизненным опытом и вовсе молчала. Единственно длинную фразу в виде приказания Григорьевич выдал уже уходя: – Сашка поможешь Лизавете собраться. Лизонька, ты быстренько соберись сама и собери своих сорванцов, – и, предупреждая могущие возникнуть у обоих вопросы, добавил – ты с детьми переселяешься ко мне. К утру нового дня Лизавета с двумя детьми, стараниями своего деда и обеих провожатых, Сашки и Никифора, была препровождена в барской карете в чистенький, ухоженный, окруженный палисадником из полутораметрового теса, двухэтажный домик Григорьевича. Дом стоял на отшибе от барской усадьбы, за заснеженным пока, но очень большим и красивым весной и летом барским садом, на берегу спокойной реки Кариан. Из окон двух комнат, выделенных ей под житье, был виден поднимающийся от противоположного пологого берега реки смешанный лес, кронами деревьев достигавший вдали синего неба. Всю эту красоту Лиза обозревала после полуденного счастливого пробуждения, стоя в одной ночной рубашке и босиком на мягком персидском ковре около двойных рам, застекленных чистым прозрачным стеклом, с ватой между рамами, посыпанной сверху тонкими разноцветными полосками, нарезанными из конфетных фантиков. В маленькие переплеты окна било яркое зимнее солнце, и в небольшой комнате было светло и уютно, сердце окончательно растаяло от ощущения безопасности за себя и детей. За закрытой дверью послышался дробный мягкий перестук детских ног по ковровым дорожкам коридора, и тотчас дверь отворилась, и в комнату стремглав вбежала её старшая дочка. За ней в дверях показалась крупная молодая дворовая девушка, которая, потупив глаза и чуть склонив голову вниз, будто рассматривала рисунок ковра на полу и сложенные под грудями руки, тихонько сказала-пропела низким грудным голосом: – Доброго утречка, барышня. Чего изволите приказать? Лизавета, прижимая к себе дочку, смущенно произнесла: – Да детей вот покормить бы. На что девушка опять же протяжно пропела: – Так наш Григорьевич уже давно распорядился, общаться с Вами так же как с ним, Вы уж говорите, что вам надобно, а мы всё сделаем, а кушать, уж подано в столовой. Давайте, я Вам помогу одеться. Вот такая разговорчивая и добродушная девушка оказалась в распоряжении Лизаветы. – Да, будьте так добры, оденьте лучше детей к завтраку – подталкивая дочку к русской великанше, произнесла ласковым голосом, оправившаяся от смущения, Лизавета. Теперь, по окончании розысков деда, превративших её жизнь в кошмар, и все же закончившимися и для неё и её детей более или менее благополучно, во весь рост встал вопрос, каким именем назвать сынишку. И вроде бы прижитый со стороны не по своей воле и все-таки своя кровь. Лизавета решила не спешить и посоветоваться с дедом Пьером, к тому же бумаг, подтверждающих ее итальянское подданство и благородное происхождение, у нее пока не было. В столовой на первом этаже, которая от кухни была отгорожена тонкой дощатой перегородкой, также чувствовалось уютное тепло двух печей-голландок, расположенных друг против друга в углах комнаты. В центре непритязательного, прямоугольного, сработанного грубо, но основательно, деревянного стола, на белоснежной льняной скатерти, уставленной столовыми приборами, стояла хрустальная ваза с живыми цветами. Это были красные и белые розы. Вошедшая вслед за дворовой девушкой, которая несла малыша в пеленках и держала за руку шестилетнюю Донату, Лизавета увидела розы и подумала с восхищением и душевной теплотой о вновь приобретенном родственнике, дедушке Пьере. А смышленая Доната тут же воплотила мамины мысли в слова: – Мама, мама посмотри, дедушка Пьер для нас цветы купил у цветочницы. Ух, какие они красивые! Лиза потрепала Донату по плечику и склонившись к её уху, произнесла: – Да, моя прелесть, да! – И спросила дворовую Любашу: – Любушка, дорогая, а где же среди ночи, зимой, наш, – и помолчав чуть-чуть, как – будто подчеркивая это слово, и давая понять всем, кто слушал их разговор, что дедушка Пьер это их и ничей другой дедушка, продолжила – наш любимый дедушка достал для нас эти цветы? На что Любаша простодушно ответила: – Да у барина в оранжерее, тут недалеко, за тыном, если желаете, могу проводить, показать. – Вот грациэ миллэ, душенька, спасибо тебе, мы подумаем, – закончила разговор Лиза и, без смущения своей католической веры, перекрестившись на православные образа, что находились в северном углу столовой с едва теплившейся лампадкой, подала пример Донате, присев на отодвинутый девушкой стул с резной спинкой и мягким атласным сидением, приступила к еде. Кушала и вспоминала длинную дорогу к деду Пьеру.
Али радовался наступившей свободе действий. Его отец, почтеннейший Юсуф-паша доверил своему старшему сыну командование отрядом кораблей и назначил выход в море для свободной охоты на завтрашнее утро. В отряде насчитывалось три парусника с командами матросов, состоящими из одних уголовных рож. Капитанами на них были такие же уголовные рожи, которых матросы этих трех посудин не просто уважали, но боялись ослушаться их распоряжений, как огня. Четвертым кораблем, переданным отцом в распоряжение Али, был быстроходный пароход «Элизабет» под командованием английского капитана Дрейка с английскими же матросами. Этот быстроходный гражданский пароход Юсуф-паша приобрел в аренду на один год путем таинственных махинаций, будучи вездесущим помощником губернатора города Бурсы, лежащем между северо-западными отрогами Улудага и плодородной долиной Нилюфер, тянущейся до южного берега Мраморного моря. А капитан Дрейк, в чьём теле бурлила кровь английских флибустьеров, в свою очередь, обязался выполнять все его поручения, с его, Юсуф-паши стопроцентной оплатой команды парохода, плюс двадцать процентов при дележе общего дохода при сбыте живого товара, будь то сомалийцы, эфиопы, другие южные народы, или народы Европы. Да и завтрашний день он, капитан Дрейк продал Юсуф-паше за весомый мешочек золота, прекрасно понимая, что самостоятельно ему, навряд ли, справиться с известным и богатейшим в деловом мире Европы молодым сорвиголовой Лучано Неаполитанским. Вчера для капитана Дрейка человек из итальянского военного конвоя, подкупленный людьми Юсуф-паши, тайно отсемафорил донесение постоянно дежурившему посту турок на острове Имралы, в котором сообщил время стоянки парусника Лучано в порту города Стамбула и время убытия из порта. В конце донесения указал цель движения парусника Лучано – русский военный город Севастополь на северном побережье Черного моря и предупредил, что в открытом море их военный кораблик сломается. Так что парусник Лучано останется без прикрытия. Весь этот расклад капитан Дрейк объяснять Юсуф-паше не стал, а заверил его, что уничтожение этого судна и его заклятого врага Лучано Неаполитанского, который вел непримиримую борьбу с пиратами всех мастей в Средиземном море, а также поднял свой голос против рабовладения, будет правильным, если нападение произойдет в нейтральных водах Черного моря. По заходу солнца Юсуф-паша благосклонно выслушал капитана и после продолжительных совместных водных процедур в дворцовой бане и бассейнах с горячей и холодной водой с соответствующим возлиянием «сладких» напитков и поеданием жирного обильного плова на прощание похлопал Дрейка по плечу, показал на появившийся, будто – бы из воздуха, на столике мешочек с золотом, и наклонившись к самому уху Дрейка, на прощание прошептал: – Будешь лучшим из лучших, если сделаешь так, как сказал. Но командовать будет мой любимый Али. Настало утро, не выспавшийся Али с радостным нетерпением к предстоящему походу за новыми рабами отпихнул белоснежную руку женщины, до сего момента покоившуюся на его обнаженном бедре, отчего разбуженная красавица с презрением в душе, но покорным видом, отодвинувшись от ночного хозяина, подтянула атласное одеяло к подбородку и тупо смотрела перед собой. – Воды, джаляб, и передай, чтоб накрыли стол, – вспомнив ночные, пьяные любовные неудачи, Али ударил женщину по руке – и быстрее! Громкий крик на последнем слове перешёл на визг. Али, лежа в постели, наклонился к краю и сполоснул волосатые с тыльной стороны ладони, провел ими два раза по лицу, принял протянутое полотенце и вытерся им. Бросил скомканное полотенце в лицо женщине, та не уклонилась, приняла его лицом, развернула, сложила повдоль и повесила себе на плечо. Вот если бы Али ударил женщину – рабыню по лицу, то узнавший об этом его отец мог бы выслушать рабыню, которая ничего не смогла бы скрыть, да и не скрывала бы про неподобающее истинному правоверному разухабистое гуляние с гяурами, хотя бы и союзниками и оставить его без своего хорошего отношения. А хорошие отцовские отношения сыну ой как были нужны, потому как на пятки наступали подрастающие детишки отца, желающие и себе такие же хорошие отношения, какие были у Юсуф-паши с Али. Хоть и с сильнейшего перепоя, и отвратительным выхлопом изо рта, как будто там всю ночь провело стадо мазандаранских ишаков, не обращая внимания на стоявшую в комнате молодую женщину, голый Али, прыгая на одной ноге, потом на другой, одел шелковые, широкие и длинные штаны – дзагшин. Натянул на немытые ноги верблюжьи носки – чорабы, обул красного сафьяна широкие сапоги, медленно, ища руками рукава, пропустил через голову муслиновую рубашку с длинным рукавом, обвил мускулистый живот, укрытый рубахой, красным кушаком, ввиду прохладного утра одел меховую безрукавку и, взяв в левую руку прошитую золотой нитью красную феску, собрался выходить в столовую. Недовольно повернул голову в сторону рабыни: – Пошла к себе. Женщина поклонилась, развернулась прочь и неторопливо пошла на женскую половину дома. Али, откинув дверную занавеску, прошел к уже накрытому столу. Оторвал маленькую кисточку темного кишмиша, положил в рот несколько упругих ягод, раздавил зубами, сладко – кислый вкус жидкости наполнил полость рта и горло наслаждением и избавлением от запахов помойки во рту. Присел на стул, тут же молодой болгарский раб подал горячую сковороду на подставке с омлетом, заправленным болгарским перцем и красными помидорами, в стоящую рядом пиалу налил до половины крепкой черной заварки и чуть разбавил холодным молоком, подвинул тарелку с кусочками брынзы и тарелку с кунжутной лепешкой. На глазах хозяина еще раз протер чистым полотенцем ложку, вилку, нож. Это уж от хозяина зависит, чем он будет кушать, руками или столовыми приборами. Али оторвал кусок лепешки, взял в руку вилку, как научил Дорик Дрейк, но передумал, бросил вилку на стол, теперь отщипнул виноградную ягодку чауш белого. «Да – а – а, это полная нирвана», – подумал Али, откинулся на спинку стула, затем встряхнулся и начал сосредоточенно жевать всё, что стояло на столе, прерываясь на запивание еды горячим чаем. От селения Кыйыкой, в котором вот уже неделю отдыхали капитаны пиратской эскадры Али Юсуфзаде, до бухты на побережье Черного моря со стоящими в ней кораблями на якорях было примерно четверть времени пешего дневного перехода, то есть, совсем рядом. Поэтому Али не спешил, прямо во время завтрака отправил слугу к капитанам Рахиму, Абдулле, Энверу и Дрейку с сообщением о немедленном возвращении на суда и подготовке их к выходу в море. Феску оставил на столе, ничего ей не сделается, слуги уберут на место. Сам одел широкий непромокаемый плащ, нахлобучил на черную шевелюру зюйдвестку с большими полями, давно подаренную Дрейком, и вышел во двор. Погода стояла мрачная дождливая, со свежим восточным ветром. Подкатили два фаэтона с закрытыми сверху кожаными пологами. Фаэтонщики, нахохлившиеся под дерюгами, будто вороны, притормозили, а затем и вовсе остановили экипажи перед Али. Али поздоровался взмахом руки с сидящими во втором фаэтоне своими капитанами, затем ловко залез в первый и приветствовал сидящего там рыжеволосого английского капитана, могучего телосложения тридцатипятилетнего мужчину по-европейски, пожатием рук, устроился поудобнее, толкнул фаэтонщика кулаком в спину. Экипажи тронулись с места. Молчали всю дорогу под чавкающие звуки выдираемых лошадьми копыт из раскисшей дорожной грязи и то усиливающийся, то уменьшающийся шелест мелких капелек нудного затяжного дождя, безостановочно ударяющих по пологу фаэтона. Да и о чем было говорить, если все планы и действия были оговорены по нескольку раз вчера на пирушке. По прибытии в гавань дождь прекратился, и в разрывы низко висящих туч проглянуло солнце. – О, сей знак свыше, к удаче, – возбужденно вскричал Дорик, энергично спрыгивая на землю, – вперед, по кораблям, выходим в море, так повелел командующий флотилией, Али Юсуфзаде, – добавил Дрейк, вспомнив, о чем предупреждал отец этого молодого мерзавца. Капитаны еще не ступили на палубы своих судов, а боцманы уже раздали тумаков рабам – гребцам и приказаний морякам на подготовку и постановку парусов. Засуетились команды палубных матросов, полезли тараканами по такелажу марсовые, старшие помощники встретили капитанов у веревочных трапов, боцмана скомандовали поднимать разъездные шлюпки на палубы, надсмотрщики выводили гребцов – рабов из сна ударами плетей. Под яркими лучами утреннего солнца вспыхивали сероватые пятна парусов, грохотали якорные цепи, наматываясь на огромные катушки, шум воды, стекающей с звеньев цепи, совершенно терялся в громких криках команд капитанов, боцманов и надсмотрщиков рабов. Две калиты, одна шебека и английский пароход – это была грозная сила на море. Быстроходные калиты имели на вооружении две пушки, носовую и кормовую, шебека – восемнадцать пушек, ну а уж англичанин все тридцать шесть пушек. На каждом судне было сосредоточено по два с половиной десятка добровольцев – янычар, которые безбашенно шли на абордаж захваченного судна, яростно уничтожая сопротивлявшихся противников всеми видами оружия, вплоть до укусов зубами. Дрейк с Али поднялись на капитанский мостик парохода, скинули дождевики на руки малолетнему чернокожему стюарду, уселись на принесенные матросами из капитанской каюты два кресла и в оставшееся время до начала движения судов молча осматривались вокруг по акватории бухты, по туманному берегу, по копошащимся на судах фигуркам матросов и рабов. – Бой, два кофе сюда! – прорычал Дорик, едва голова чернокожего мальчишки появилась на трапе капитанского мостика. Тот ссыпался обратно в каюту капитана готовить кофе. Боцман, по команде Дорика, снарядил палубного матроса за раскладным столиком. Едва только он был установлен у кресла капитана, на него тотчас стюардом были поставлены чашки с горячим черным кофе, до половины налитые и исходящие неповторимым ароматом этого божественного напитка. Стюард с белым полотенцем на полусогнутой руке застыл маленьким изваянием позади кресла капитана. – Ну что, уважаемый Юсуфзаде, – льстиво величая командующего флотилией Али по фамилии, Дорик поставил опорожненную чашку на столик и указал на корабли, закончившие подготовительные работы к выходу в море, – настала пора выдвигаться на охоту. – Да, вперед! – откликнулся, вполне пришедший в себя после отвратительного утра, Али. Согласно разработанной Дрейком и утвержденной Али диспозиции, шебека Энвера двигается за впереди идущим пароходом, калиты Рахима и Абдуллы, посланные вперед на отыскание корабля итальянца, при визуальном контакте с парусником Лучано расходятся вправо и влево, захватывая жертву в клещи, а пароход с ускорением сближается с нею же. А когда окруженному кораблю деваться будет некуда, вступают в дело янычары. Зоркие глаза стервятников моря, Рахима и Абдуллы, все-таки высмотрели знакомый силуэт парусника в открытом море. Это вам не вдоль берегов пиратствовать, где лишь ленивому не везет. Здесь только опытный глаз, быстрота и слаженность работы всей команды могли обеспечить исполнение распоряжений Али – паши. Прошло немного времени после полудня и «битья Рынды», то есть было отбито на корабельном колоколе парохода три троекратных удара, когда за горизонтом впередсмотрящий парохода заметил черный дымовой сигнал, который подавала ушедшая туда калита Абдуллы, обнаружившая парусник итальянца. – Прибавить ход!», – крикнул в раструб, соединяющий капитанскую рубку с машинным отделением, Дрейк и подмигнул Али, – готовься к схватке паша. Через некоторое время…