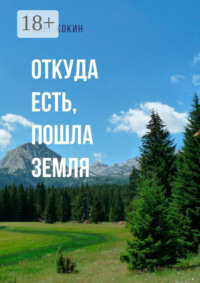Полная версия
Приключения Фора и Сандра
– Так, угощайтесь, дедушка, ешьте, ешьте на здоровье – начала уговаривать Алена управляющего.
– Обязательно откушаем твоего угощенья – заверил её Григорьевич, – но сначала послушайте, какое это знатное и почетное кушанье русское, которое в старину даже город от нашествия кочевников спасло. Все притихли и внимательно глядели на Григорича, даже маленький Евстафий перестал вскрикивать и тоже, будто бы, приготовился слушать деда. Кот Тимофей прервал счастливое урчание и, как будто понимая что-то, подняв голову над прижатым лапой куском сала, продолжительное время смотрел на Григорича.
– Было это в далёкие, далёкие времена. Выдался год для Руси тяжелый. Пришлые кочевники, вражье племя, которые печенегами назывались, постоянно на Русь набеги совершали. Пошел князь Володимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была тогда беспрерывная великая война. Узнали печенеги, что нет князя, пришли и встали под Белгородом. И затянулась осада, и был сильный голод. И собрали в городе вече, и сказали: – Вот уже скоро умрем с голода, а помощи нет от князя. Сдадимся печенегам – кого оставят в живых, кого умертвят; все равно умираем от голода. Так и решили на вече. И был один старец, который не был на вече и спросил он: – О чём было вече? И поведали ему люди, что хотят завтра сдаться печенегам. Услышал он об этом, призвал к себе старейшин города и сказал им: – Слышал, что хотите сдаться печенегам. Они же ответили: – Не стерпят люди голода. И сказал им старец: – Послушайте меня, не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что я вам велю. Они же с радостью обещали послушаться. И сказал он им: – Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. Они же с радостью пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в него кадь, и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кадь, и повелел поискать меду. Они же пошли и взяли лукошко меду, которое было спрятано в княжеской кладовой. И приказал сделать из него сладкую сыту и вылить в кадь в другом колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: – Возьмите от нас заложников, а сами войдите человек с десять в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем. Печенеги обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах, послали в город, чтобы проведали, что делается в городе. И пришли они в город и сказали им люди: – Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и десять лет, то, что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами. И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром, и вылили в лотки. И когда сварили кисель, взяли его и пришли с ними к другому колодцу и почерпнули сыты из колодца, и стали есть сначала сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: – Не поверят нам князи наши, если не отведают сами. Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты из колодцев и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали всё, что было. И, сварив, ели князья печенежские и дивились. И взяв своих заложников, а белгородских отпустив, поднялись и пошли от города восвояси. Так-то вот кисель русский спас русский город. И это не сам я придумал. А записано это в летописи у Нестора, как нам, только прибывшим в Севастополь, молодым солдатам батюшка Ушаков Федор Федорович рассказывал, царство ему небесное, не за столом будет помянут. Такой вот присказкой закончил свой рассказ Петр Григорьевич, покряхтывая, встал, повернулся к иконам и перекрестился. – Прости меня, господи, – добавил он, присаживаясь. – Ну-ка, набей – ка мне трубку, будь ласка, – перемежая свою речь малороссийскими словами, обратился Григорьевич к Никифору, и подал тому трубку и кисет с курительным барским табаком, а сам, испросив у Марии ковшик и зачерпнув им кисель, начал потихонечку его выпивать и поглаживать отсутствующую мочку правого уха. Попивал, попивал, да и поглядывал, то на шепчущихся женщин, то на тихо беседующих молодых мужиков, которые изредка бросали на него заинтересованные взгляды « может нужно что? Только скажи Григорьевич». Никифор заряженную трубку и завязанный кисет положил на стол перед управляющим, который продолжал потихоньку потягивать кисель из ковшика и повернулся к Николаю с весёлой ухмылкой, одновременно подмигивая Зайцу: – Так, говоришь, завалили вас работой. А сам – то справляешься в учениках? Или помочь прийти нам с Сашкой? Николай с довольной улыбкой поддержал шутку: – Да, работы в кузне навалом, но я думаю, сами разгребемся к весне – то. А вас – то зови, не зови, все равно не придете, – подъитожил он. – Эт, что-то так-то? – вскинул голову, задумавшийся о чём – то Заяц. – Да, поясни, – поддержал друга Никифор. – Легче легкого, вы – то тоже пашите на своих местах, и если кто – то из вас, а тем паче сразу оба бросите свою работу и бегом мне помогать, да и ещё не знавши нашей работы, толку – то! И мне не поможете, и свою работу не сделаете, а ты говоришь, что, – уже серьезно отвечал Николай, похлопывая Сашку по плечу. Тут пахнуло аристократическим запахом курительного табака от трубки Григорьевича, который перед этим, не трогая разговаривающих мужиков, жестом подозвал Арину и, также молча, указал на трубку. Арина легко поднялась из-за стола, зажгла свежую лучину от лучин, освещавших избу, и подала Григорьевичу. От огня которой Григорьевич и раскурил трубку. – Интересно – чай, подарок – то посмотреть, – пыхая дымом в бороду, промолвил Григорьевич, обратясь к Арине. – Да какой – же? – разведя руки в стороны, недоуменно вопросила Арина. – А ты у матери в переднике глянь, – сказал и глазами указал на Марию управляющий. – Мама, Петр Григорьевич говорит, мой подарок Вам отдал, дайте мне его, пожалуйста, я посмотрю, что это? – обратилась Арина к матери с вопросом. Та с ответом: – Держи, совсем закрутилась, – подошла к Арине боком, на одной руке держа внука, другой вытащила сверток Григорьевича из кармана передника и передала Арине. С молодым нетерпением и благодарственным трепетом приняла Арина сверток из материнских рук. Аккуратно освободила кожаный кисет от кожаных завязок и перевернула над столом. Из кисета с глухим стуком по скоблёному дереву стола выпала длинная нитка морского жемчуга. Меж мужиков стих разговор, все разом повернули головы на стук и открыли рты, увидев какой подарок, Григорьевич подарил молодке. Перебирая шероховатые на ощупь горошины жемчужин своими красивыми тонкими пальчиками, Арина вопросительно поглядела вначале на мать, затем на Григорича. Мать пожала плечами и занялась разревевшимся внуком, меняя ему мокрую пеленку на сухую. А Григорич махнул рукой: – Что уж там, одевай, одевай, дай нам полюбоваться на красоту – невестку моего названного внука. Зря, что ли эта нитка ждала столько лет. Вправду сказать, для своей суженой берег, да судьба распорядилась иначе, до моего приезда с моряков, упокоилась голубушка. Пусть земля ей будет пухом. И уже шепотом для себя, добавил: – Прости меня, господи, не за столом будет сказано. – И уже громче: – Ну вот, Никифор, гляди на свою кралю, это ж царевна прям, ты уж её береги, а чуть что не так, так гляди у меня, – и шутливо погрозил Никифору согнутым указательным пальцем. – А мне жемчуг достался как трофей, когда с Федором Федоровичем Ушаковым италийский город – Неаполь от французов освободили, – пресёк возможные вопросы Григорьевич и пустился в воспоминания лет своих младых и старше тоже. И Никифор, и Сашка – Заяц, и Николай, и Мария, и Арина, теребящая жемчуг у себя на шее (одела быстро, как только разрешил, подумалось – а вдруг передумает), и успокоившийся Евстафий – все, затаив дыхание, слушали рассказ Петра Григорьевича о морских баталиях. Рассказ о том, как моряки служили и на кораблях жили, о дружбе морской и порядках на воде и на суше в Российском Императорском Флоте и что за отец суровый и справедливый, был адмирал Ушаков Федор Федорович.
– Рекрутом попал я, ребятушки, не в моряки, а в солдаты. – Степенно начал свой рассказ Григорьевич, изредка попыхивая трубкой, – и прослужил даже целых два месяца денщиком у его высокоблагородия полковника Ермилова Тимофея Павловича в Тамбовском полку. Служба солдатом на суше, это я вам доложу, курорт по сравнению с морской службой. Даже, несмотря на жестокие наказания за упущения по службе, на смерть или ранения в сражении, солдат в пехоте стоит и ходит по твердой земле, вдоволь воду пьет и иногда нюхает цветочки. Тогда как моряк всё это имеет в десять, а то и в сотни раз меньше, а воюет с врагом подчас и похлеще и храбрее чем сухопутный вояка, да и усопшего моряка хоронят в море, если есть что хоронить. Два месяца служил, и давно же это было, а помнится так, будто вчера всё произошло. Только Очаков у турок взяли. Тут циркуляр (обращение) от генерал-фельдмаршала Потемкина Григория Александровича прибыл. Срочно набрать команду рядовых, да никаких – нибудь, а вот наподобие Никифора. Вот моряком меня и сделал писарь нашенский, полковой, написавший приказ по полку о переводе ста пятидесяти душ нашего полка в Российский Императорский Флот. И подмахнул этот приказ мой господин, его превосходительство полковник Ермилов. Передо мной притворно сокрушавшийся, что вот, денщика у командира полка начальство забирает, а он ничего поделать не может. А всё произошло от недокомплекта у Флота нашего на Чёрном море после Крымских войн с турками. А нам-то боязно на море идти, это ж, почитай, в тюрьме легче срок мотать, и накормят и напоят, нормальной, не соленой, водой, и под ногами, опять же твердь, а на воде, говорят, и болезни разные приключаются, да и потонуть там легче лёгкого. Пригнали нас, уже и не сопливых, на корабли Черноморского Флота, в главную морскую базу – город Севастополь. Что тут началось! На морском языке это называется – аврал. Во-первых, нас по новому, всех обстригли и помыли. Одели в рабочую матросскую форму, так называемую, робу, старенькую и залатанную в разных местах, но чистую и старые дырявые башмаки. На голову, на первое время, сказали повязать платки из ветоши (ветошь в то время на кораблях состояла в основном из старого, рваного, непригодного для ремонта, но постиранного и чистого постельного и нательного белья). Сразу выдали именной матросский рундук, в котором боцманмат (это помощник боцмана по материальной части) уложил по нашему росту матросскую одежду: новую рабочую и новую парадную, а также треуголки из черного сукна, добротные кожаные сапоги с отворотами, а мне ещё и тесак канонира. Серым ветреным утром второго дня на всеобщем построении нас, молодых, по командам кораблей раскидали везде поровну. И стали с нами заниматься старослужащие бомбардиры и фейерверкеры для обучения морской службе на судне и на суше прямо со второго дня прибытия. Меня, как самого сообразительного, не зря в денщиках ходил у его высокоблагородия, и сильного, не смотрите, что сейчас я и кашляю, и с палочкой хожу, в те времена был – о-го-го, поставили в прислугу орудия первой палубы, той, что ближе к кубрикам и трюму на первого ранга линейном корабле « Святой Павел». Судовой фельдшер, как поглядел зубы у меня и пощупал мышцы на руках, так и сказал, силача, мол, в орудийную команду, на гон-деку. Корабль был новый, только сошел со стапелей в Херсоне, все снасти новые, пушки новые и мы, тоже, новые на море. А в прислуге пушки нашей было где – то человек десять, это не как четыре канонира, что у пушек на открытой палубе, и не как на мидаль-деке (вторая палуба) на пушку восемь орудийных в прислуге. У нас на гон-деке стояли самые тяжелые пушки. Которые полегче, выражаясь словами наших офицеров, стандартные двадцати четырех фунтовые, стояли на второй палубе, а уж самые лёгкие, полупушки и фальконеты (12 и 6 фунтовые) стояли напротив открытых полупортиков в фальшборте на верхней открытой палубе. Тридцати шести фунтовая пушка – это зверь. И чтобы этот зверь не кусал тебя, ты должен уметь ухаживать за ним, любить и ласкать его, как любимую девушку, не забывать банить, чистить и смазывать после стрельбы. И чтобы всегда все приспособления по стрельбе и выкатке орудия для выстрела, после заряжания, лежали на своих местах. Не дай бог, что-то забыть в другом углу палубы или не вовремя отвязать канат открывания порта пушки, или долго зажигать фитиль, старший фейерверкер орудий голову свернет и скажет: « Так и было». Поэтому и старались постичь азы морской науки зараз и накрепко. Как мичман морской артиллерии « Святого Павла» говорил: – Сегодня ты орудию обиходишь и жизни ему прибавляешь, а на завтра оно тебе и твоим товарищам жизнь спасёт! Он у нас на корабле самый главный спец по пушкам был, ох, и душевный человек, хоть и молоденький офицер, а прям батяня, Александром Михайловичем звали, а фамилия – Зимин. И пушки свои и нас, детей своих, никому в обиду не давал и нашим ходатаем был перед его превосходительством адмиралом Ушаковым Федором Федоровичем по наградам живым героям и помощи семьям убиенных в сражении морских солдат и матросов. И это правда, ребятушки. Стало быть, у нашего орудия я с девятью своими товарищами были самыми низшими чинами – канонирами. И звания наши так и назывались канониры двупушек, это значит, наша пушка почти в два раза тяжелее стандартной была. Остальных распределили кого куда. Кто – то попал в морские солдаты (это которых с кораблей высаживают на сушу, чтобы те там с врагом воевали), кто в подносчики боеприпасов и пороха, этим самое вроде бы безопасное и в то же время самое тяжелое место при схватке морской попалось. Сами подумайте, мыслимое ли дело, тяжеленые мешки с припасами и бочонки с порохом снизу, с трюма, аж до верхней палубы бегом нести. Ан сдюжили. А кого-то поставили канонирами единорогов. Половина пушек из двадцати восьми на гон-деке были единороги. Вот ведь красавцы – и видом, и разрушением вражеских кораблей, и прицельной стрельбой превосходили остальные пушки. Других солдат определили чисто по матросской части – обслугой снастей корабельных, по аварийным делам и в некомплектные команды других судов морских. Кормили нас, хотя и быстро, быстро, но от пуза. По этому поводу наш главный кок (так повара на судне звали) шутил, что, сколько калорий моряку не забивай в живот, жирным моряк не станет. Вот такое напряженное учение у нас было.
А случаев всяческих, и курьёзных, и обидных и серьезных, так сказать героических, происходило на корабле много. Вспомнилась Калиакрия. Дикий рев фейерверкеров: – К орудиям, три якоря в глотку и факел в одно место, порты открыть, заряжай! До этого крика трое суток шли из Севастополя под всеми парусами. Петр с Семкой, поставленный на должность заряжающего его орудия, бархоткой наводили глянец на палубную рынду с вылитыми по ее нижнему поясу буквами « СВЯТОЙ ПАВЕЛ». Холодноватый ветер трещал парусами, солнышко по-летнему знойно пекло сквозь косынки коротко стриженые головы. После сытного обеда животы у обеих успокоились и не бурчали. – Ну, что, метать харчи не будешь больше, – с подначкой спросил Петр Семку. Семка серьёзно глянул на Петра: – Доктор меня осмотрел и сказал, что болезнь отступила и теперь я моряк. – Ну, тогда, ладно, – уважительно протянул Петр и покровительственно хлопнул Семку по спине. А тут этот ор и свистки боцманов. Все, кто находился на палубе, работающие матросы, вальяжно прохаживающиеся офицеры и наблюдающие за работами нижних чинов боцмана вмиг бросились врассыпную, по своим боевым местам. Петр только начал закреплять крышку портика, а Семка уже довольным тенорком профальцетил: – Заряжено! Петр кресалом зажег пропитанный земляным маслом малый факел, им же запалил и плошку с этим маслом, факел затушил. И теперь стоял возле нее с приготовленным факелом, дабы им, зажжённым от плошки, поджечь пороховой заряд пушки. В квадратном окошке портика качнулась тёмно-зелёная вода черного моря, показался далекий клочок суши с выжженной солнцем травой, потом вылезли смазанные в солнечном свете силуэты османских парусных кораблей. Орудийная прислуга навела и закрепила пушку подпорками и канатами. Грянул громкий возглас командира палубных пушек: – За Царя, отечество, за веру. Пали! Все матросы и командиры, открыв рот, чтоб не оглохнуть, сопровождали яростными и жадными взглядами, прерывающиеся качающимися окнами портов, полеты чугунных ядер, с оглушительным грохотом покинувших уютные лежанки стволов трицатишести фунтовых пушек. Некоторые ядра упали чуть-чуть не долетев до бортов вражеских кораблей, вздымая дымные султаны воды, но одна часть ядер прошла железным градом по палубам, парусам, мачтам и палубным надстройкам, сокрушая дубовые доски обшивки судна, натянутые канаты парусов, мощные столбы мачт. Разлетающиеся щепки и куски дерева рвали до смерти или ранили мягкие тела людей в турецкой форме. Другая часть ядер пролетала через переборки и ткани парусов, застревая в противоположном борту или в настилах трюма, опять – таки убивая и калеча команду вражьего судна. Снова команда: – Заряжай! И все повторяется. Петру горячим вихрем опалило правую щеку и ухо. Рука дернулась к уху и ощутила что – то горячее и липкое. « Ну, гады, попляшите вы у меня на углях» – с яростью посмотрел он на окровавленную ладонь, сзади послышался протяжный стон. Быстро обернувшись, Петр увидел палубного фейерверкера Фрола Тарасовича из – под Великого Ростова. Он разевал и закрывал рот, силясь что – то сказать, держался обеими руками сзади себя за обшивку переборки, сползая по противоположной от порта стенке. А из – под задравшейся нательной кровавой рубахи проглядывали рваные кровяные обрывки кишок в аккуратной дыре живота. Петр рванул к Фролу, держа его подмышки, склонил голову с целым ухом ко рту Фрола. – Ты, это, паря, матери отпиши, что умер хорошо, – просипел кривляющимся ртом Фрол и сразу же обмяк, смотря перед собой бездумными, стекленеющими глазами. И как только положил Петр Фрола на пол, тут вся катавасия закрутилась еще круче. Ни качающийся под ногами пол, скользкий от брызг воды и вытекшей крови убитых и раненных матросов, ежеминутно присыпаемый щепой и осколками обшивки и переборок, из – за попадания в них вражеских ядер и пуль, ничто не мешало остающимся в меньшинстве боевым расчетам производить залпы и разрозненные выстрелы из пушек по команде Петра. Бились до темноты. Стреляли уже по видимым вспышкам огрызающегося врага. Звонкий крик прибежавшего мичмана: – Прекратить огонь! – явился долгожданным событием для оставшейся горстки пушкарей, крутящейся, как черти на горячей сковороде, из последних сил подкатывавших пушки к порту и заряжающих их тяжелеными чугунными ядрами. – Да, много, – прервался Григорьевич, задумчиво глядя на огонёк лучины. – Ну, заговорил я вас, а главный герой наш сегодня требует отметить крестины как следует. Правильно я говорю, Евстафий, а? – Чуть повысил голос Григорьевич и остро, и ласково взглянул на кучу пеленок в руках Марии. Евстафий, как – будто понял, что к нему обращаются, легонько всхрапнул во сне и повернул головку в другую сторону. Все тихонько засмеялись, а Никифор и Алена влюблено переглянулись меж собой. Николай, взяв на себя смелость, разлить по кружкам самогон, аккуратно приподнял опорожненную наполовину четверть и наполнил кружки на столе. Так же аккуратно встал с лавки, не тревожа соседей, и сказал тост: – Пьем за моего крестника, за его долгую и счастливую жизнь, за то, чтобы умным и справедливым как наш Петр Григорьевич был, чтоб кормильцем для своей семьи был и родителей не забывал. – Правильно сказал, верно, – поддержал Николая Сашка, не забывая накладывать на ломоть хлеба тверденькие, с прослоечками мяса, кусочки соленого сала. – Вот, дает, а? – ни к кому не обращаясь, вопросил Григорьевич, поднимая кружку и уже поглядывая на Николая, добавил: – Хорошо сказано и ладно выпито. Чокнулись, не забывая и баб, кружками. Выпили. В который раз мужики после опрокинутых кружек крякнули, а бабы ойкнули. Снова потянулись неспешные разговоры.
Разомлевший от выпитого в натопленной избе и, наконец – то, почувствовавший себя в своей тарелке (не счесть, сколько вечеров проведено в других избах в компании парней и молодок), Сашка расправил тощую грудь, испросил разрешения у старшего за столом, у Григорьевича, кое-что рассказать. Тот дал добро. – Это не сказка и не быль, а словесная пыль – затараторил Сашка и раскрыл рот, чтобы продолжать дальше и тут же захлопнул его, услышав отповедь Григорьевича: – Я тебе слово дал для чего? Для рассказа! – Григорьевич поднял указательный палец правой руки вверх, – А ты тараторишь невесть что, девкам на посиделках будешь тараторить, здесь же, за столом расскажи нам свой рассказ спокойным языком. – Заметив, что и сам заговорил вроде-бы стихами, сплюнул через левое плечо: – Тьфу, ты черт, сглазил пацан, – и добавил – ну? Что хотел сказать? Рассказывай. И без фокусов своих. Сашку уговаривать и не надо было, бессловесно выдохнул он все свои возражения Григорьевичу и с загоревшимися глазами, но уже спокойно и размеренно, явно желая, чтобы его повествование понравилось имевшимся слушателям и в особенности Григорьевичу, начал вести рассказ: – Дело было в начале позапрошлого лета. Как обычно, пас я коров возле той балки, из которой ручей чистой родниковой воды вытекает (Григорьевич нахмурился). Ты, Григорьевич, не серчай, коровы – то от родника далече были, уж я – то эти дела блюду, к роднику коров ни-ни. (У Григорьевича брови расправились) Так вот, я и говорю, сижу, пью чистую родниковую водицу, тут смотрю, странница идет в мою сторону с котомкой за плечами и за руку маленького ребенка ведет за собой. Николай с Никифором, прислушиваясь к рассказчику, изредка о чем-то меж собой шептались, Григорич внимательно слушал. А Мария с Ариной, подперев головы двумя руками на одинаковый манер, внимали рассказу с переживаниями, и зорко следили за губами рассказчика. Сашка продолжал: – издалека, видно, шли. Ногами траву и камешки на тропке загребали. Уставшими они были, это точно. На женщине лица не видно, только глаза, остальное платком укутано. Зипун веревкой перетянут под грудями, платье или юбка там – до земли, и видно, что на сносях сама – то. А ребенок одет прямо барчонок будто, только во все грязное, а личико хотя и не закрытое, как у женщины, а все – равно не понять, паренек это или девчонка. И то, что не цыгане, тоже было ясно видно. Я сразу заметил, что глаза у женщины, уставшие и голодные, да и ребенок её посмотрел на меня как – будто волчонок какой. Уступил я им свой кожушок, на котором сидел, без всяческих слов, угостил, чем бог послал, да чем меня поварихи снабдили на день. Женщина мне рукой показала и сказала, плохо так по – русски, отвернись, будь добр, пока мы есть будем. А мне- -то что, пока они ели, я к стаду сбегал, пересчитал и осмотрел своих подданных. Все были на местах, лежали в травке и жвачку жевали. До дойки времени было еще навалом. Поэтому выждал я определенное время и спустился в балку. Странница была уже на ногах и в вытекающем ручейке родника, то есть, родника не оскверняя, держась за свою поясницу одной рукой, другой зачерпывала воду и обмывала лицо своему ребенку. Теперь я был уже вправе спрашивать у них, кто они, откуда и куда путь свой держат. Мария не удержалась: – И кто ж это были? Ответил за Сашку Григорич: – Он нам про это и рассказывает. Слушай доченька и не перебивай. Сашка облизал губы языком и с благодарностью взглянул на Арину, подавшую ему ковшик киселя. Быстренько выхлебал его, вытер рукавом кисельные усы с раздвоенной верхней губы и продолжил: – Мне сразу узнать об этом не удалось, баба, и ребенок её, не разговорчивые попались, сказали только, что погорельцы будто и идут с южных гор, которые Кавкасовыми называются. – Правильнее сказать: Кавказ это – не выдержал неправильности и тихонько перебил рассказчика Григорьевич, – ох и бедовые людишки там живут, одним словом, горцы. Повидали мы и их тоже, – и уже громче, кивая Сашке головой, – да ты рассказывай, рассказывай, что – то дальше-то было. – Да ничего и не было, баб на дойку сторож наш Авдей привёз на рыдване, так после дойки она вместе со своим ребенком с ними в село и уехала. Вот! – тут Сашка выпрямил спину и положил руки ладонями на стол. Всем своим видом говоря, что вы еще от меня хотите. – Ну – да, ну – да и теперь она со своей девчонкой и маленькой лялькой у тебя в дырявой халупе вроде бы тайно проживают – обличающе проворковал Григорич и с прищуром посмотрел на Сашку. Все также уставились на него в вопросительном молчании. – А-а, что уж там молчать, а вот и скажу всё, как было, – махнул рукой Сашка-Заяц. – Обманула она меня сначала, оказывается не с Кавкасовых гор она, тьфу ты, не с Кавказа, а с Италии, а убежала от османов из гарема Юсуф-паши, и дитятку свою прихватила, а второй маленький родился у меня в избе от насильника казацкого. Пока она пробиралась к нам, он её изнасиловал, значит. А шла, правильно, через те горы, люди добрые ей помогали, чем могли, да и полдороги почитай в воинском обозе поварёнком проработала, за проезд значит, до нас – то. – Не ругайте меня люди добрые, а только я спросить хочу, а что – то она, то к нам, то до нас, это что у нас для неё мёдом намазано, а? – приподняв подбородок и раскрасневшись, сладким голосом пропела Мария. – Остепенись, остепенись Мария, дай дослушать Сашку – то, – рыкнул Григорич. Благодарно глядя на Григорича (не дал в обиду женскому полу) и, переводя гордый взгляд с одного слушателя на другого, Сашка продолжал: – Аж два с половиной года прошло, как плыла она со своим суженым и с дочкой из Италии в Россию на своем корабле. Они богатые были. А плыла, чтобы встретиться со своим дедом и передать ему, что дочь его Жанна, её мать представилась по неизлечимой болезни, а бабушка Александра жива и здорова и зовет его к себе в город Неаполь жить. Она теперь богатая вдова. А тот дед работает у русского барина Чичерина Александра Феофановича и проживает у него в усадьбе, так ей, мол, сказали в консульстве русском в Неаполе. А деда её зовут Пьером. Да вот незадача, напали пираты. Всю команду и мужа убили, корабль сожгли, а их и остальных женщин османам в рабство продали. И закончил тоскливо: – Я вроде всех в округе стариков знаю, но с таким именем у нас и нет никого. Теперь пришла пора краснеть управляющему, и с чего бы только, вроде бы и времени утекло немало, и знать никто не знает и не догадывается. А вот, в самом деле, стыдно стало перед собой и перед невестой Дарьей, что ждала его и не дождалась и теперь в земле лежит, а дух её днем в небесах, а ночью во сны приходит. И всё так же любит его, как в молодости, и ничего плохого не говорит ему.