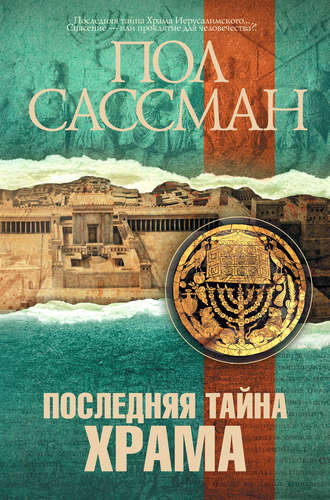
Полная версия
Последняя тайна Храма

Пол Сассман
Последняя тайна Храма
Paul Sussman
THE LAST SECRET OF THE TEMPLE
Печатается с разрешения The Estate of Paul Sussman и литературного агентства The Susijn Agency Ltd.
© Paul Sussman, 2005
Школа перевода В. Баканова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
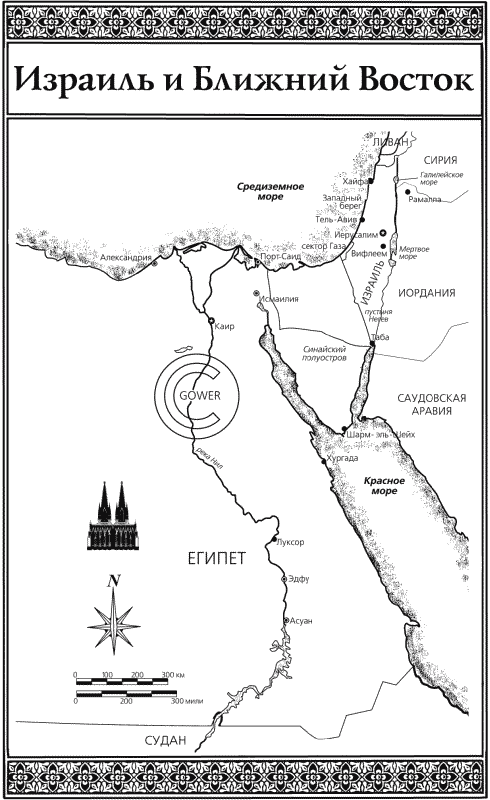

Пролог
Иерусалимский Храм, август 70 г
Как беспорядочная стая птиц, десятки отрубленных голов с вытаращенными глазами и разинутыми ртами перелетали стену Храма, со свистом разрезая воздух. Одни ритмично, словно под барабанную дробь, шлепались о закопченные плиты Двора Женщин, заставляя стариков и детей шарахаться в ужасе. Другие пролетали за Ворота Никанора во Двор Израиля, посыпая огромными страшными градинами пространство вокруг Жертвенного алтаря. Некоторые даже достигали Мишхана – главного святилища в глубине построек Храма, которое, казалось, так и стонало под натисками штурмующих.
– Ублюдки! – задыхаясь от ярости и отчаяния, кричал мальчик. Его темно-голубые глаза были налиты слезами. – Паршивые римские ублюдки!
Стоя за бойницей храмовой стены, он смотрел, как под ним, словно полчища муравьев, ползли массы легионеров. В грозном пламени сражения ярко сверкали их оружие и стальные доспехи. Ночь наполнялась криками, смешивавшимися в едином гуле со свистом баллист, дробью барабанов, воплями умирающих и равномерными, низкими, заглушающими остальные шумы ударами стенобитного тарана. Мальчику казалось, что весь мир на его глазах уходит в небытие.
– О Боже, помилуй меня! – шептал он стих псалма. – Я страдаю, глаза мои ослепли от горя, душа моя и тело мое покинули меня.
Шесть месяцев, в течение которых шла осада, кольцо окружения не переставая стягивалось, как гаррота удушая город. Четыре римских легиона, первоначально располагавшиеся на вершине Скопус и Масличной горе, пополнившись тысячами новоприбывших солдат, перешли в наступление, неуклонно сокрушая каждый заслон на своем пути и тесня израильтян. Иудеи гибли во множестве – либо в неравном бою, либо распятые на крестах, которые обрамляли городские стены и долину Кедрона, привлекая затмевающие солнце стаи грифов. Повсюду пахло смертью, тошнотворная вонь разлагающихся тел резала ноздри.
Девять дней назад пала крепость Антония, спустя шесть дней та же участь постигла прилегающие к Храму дворы и колоннады. Теперь невзятыми оставались лишь укрепленные внутренние анфилады Храма. В них те из горожан, кто остался в живых, сбились в жуткой тесноте и грязи, доведенные муками голода и жажды до того, что стали поедать крыс, грызть кожу и пить собственную мочу. И все же они продолжали сражаться в неистовом и безнадежном бою, сбрасывая камни и горящие брусья на нападающих римлян, делая неожиданные вылазки, благодаря которым врага иногда удавалось выбить из прилегающих дворов. Однако спустя короткое время обороняющимся приходилось снова, с чудовищными потерями, отходить из освобожденных мест. Оба старших брата мальчика погибли во время последней вылазки, когда пытались свалить осадную машину римлян. И он знал, что их обезображенные головы среди тысяч голов других падших защитников города были заброшены катапультами за стены Храма.
– Vivat Titus! Vincet Roma! Vivat Titus![1]
Рев римлян, скандирующих имя их командующего, сына императора Веспасиана, становился все громче. По другую сторону оборонительных укреплений начали в ответ выкрикивать имена иудейских военачальников – Иоанна Гишала и Симона Бар-Гиора. Но эти имена были слышны хуже – их произносили люди с пересохшим горлом и ослабевшими легкими, да и сами командиры, по слухам, договорившиеся с римлянами о сохранении жизни в обмен на сдачу города, едва ли могли ободрить своих воинов. Израильтяне покричали еще с полминуты, и постепенно голоса их стихли.
Мальчуган вынул из кармана туники булыжник и принялся сосать его, пытаясь заглушить мучительную жажду. Давид был сыном винодела Иуды. До великой войны у его семьи был виноградник на склонах вблизи Вифлеема. Его ярко-красные плоды давали сладчайшее вино на свете, такое же нежное, как свет весенней зари, такое же легкое, как дуновение ветра в тамариндовой роще. Летом Давид помогал собирать урожай и торговать плодами. Он вспомнил, как смеялся, стоя в вязкой кашице давленого винограда, от которого ноги окрашивались в кроваво-красный цвет. Теперь от прежних времен не осталось и следа: винные прессы были разбиты, виноградники сожжены, семья уничтожена. Он один на один с разъяренным миром. В свои двенадцать лет он перенес столько горя, сколько иной не знает, будучи и в пять раз старше.
– Опять наступают!.. Готовьтесь! Готовьтесь! – разнесся по укреплениям крик, возвестивший о новой атаке римлян.
Над головой солдаты несли передвижные лестницы, отчего в мерцании адских вспышек пламени становились похожими на гигантских многоножек, бегущих по земле. Отчаянный град камней обрушился на римлян сверху; штурмующие на мгновение замедлили темп, затем рванулись вперед с новыми силами, добрались до стены и начали выставлять лестницы. Лестницы по бокам поддерживали двое солдат, в то время как десятки их однополчан старались с помощью шестов перебросить осадные приспособления за линию обороны. Едва это удавалось, легионеры устремлялись вверх, мутным потоком накрывая стены Храма.
Мальчик сплюнул, поднял лежавший у ног булыжник, зарядил его в кожаную пращу и, высунувшись за бойницу, под градом стрел стал искать подходящую цель. Стоявшая позади женщина, помогавшая вместе с многочисленными соплеменницами защитникам крепости, поскользнулась и рухнула наземь; между ее рук заструилась кровь из пробитого римским дротиком горла. Не обращая на нее внимания, Давид скользил глазами по рядам римских легионеров в поисках подходящей цели, пока не увидел знаменосца, державшего эмблему XV легиона Аполлона. Мальчик стиснул зубы и, не отрывая глаз от мишени, начал вращать пращу. Один замах, второй, третий…
Вдруг кто-то сзади дернул его руку. Он развернулся и начал бить по невидимому противнику свободным кулаком.
– Давид, это я, Елеазар! Ювелир Елеазар!
За его спиной стоял мощный бородатый мужчина с большим железным молотом на ремне и окровавленной повязкой на голове.
– Елеазар! Я думал, это…
– Римлянин? – Мужчина невесело усмехнулся и отпустил руку мальчика. – Неужели от меня так дурно пахнет?
– Если бы не ты, вон тот знаменосец лежал бы мертвым! – возмутился мальчуган. – Я уже нацелился на его поганую черепушку!
Мужчина снова засмеялся:
– Не сомневаюсь, ведь всем известно, что никто не владеет пращой лучше, чем Давид Бар-Иуда! Однако сейчас ты нужен для более важного дела.
Он оглянулся и понизил голос:
– Матфей послал за тобой.
– Матфей! – Мальчик широко раскрыл глаза. – Верховный…
Мужчина прикрыл мальчику рот ладонью и снова оглянулся:
– Тише! Это… это секрет. Симон и Иоанн разгневаются, если узнают, что ты вызван без их ведома.
Мальчик в недоумении хлопал глазами. Ювелир даже не пытался прояснить свои слова; убедившись, что мальчик его услышал, он отдернул ладонь ото рта Давида, взял его за руку и повел через укрепления вниз по узкой винтовой лестнице во Двор Женщин. Каменная кладка под их ногами сотрясалась от усилившихся ударов римского тарана, пробивавшего ворота Храма.
– Быстрее! – призвал Елеазар. – Стены долго не устоят.
Они спешно пересекли двор, обходя разбросанные по мощеной площадке головы и увиливая от града свистящих стрел. Добежав до противоположного угла двора, поднялись на пятнадцать ступеней, ведущих к Воротам Никанора, и, пройдя их, попали на следующую площадь, усеянную толпами коханим[2], неистово возносивших молитвы у Жертвенного алтаря. Их надрывные стенания не могли заглушить шум битвы.
О Боже, Ты покинул нас и обрек на поражение;Ты разгневался на нас;О, верни нам силы!Ты поверг свою землю в смуту,Ты расколол ее на части,Соедини же ее вновь, иначе она погибнет!Они пересекли второй двор и взобрались по двенадцати ступеням ко входу в Мишхан. Его массивный фасад, увенчанный великолепной виноградной лозой из чистого золота, вздымался на сто локтей в высоту. Елеазар остановился у входа, повернулся к мальчику и присел на корточки, чтобы поравняться с ним глазами.
– Дальше я не пойду. Входить в святилище позволено только коханим и самому первосвященнику.
– И мне? – спросил мальчик нетвердым голосом.
– Да, в этот роковой момент тебе тоже разрешили. Так сказал Матфей. Да поймет его Господь! – Елеазар крепко обнял мальчика за плечи. – Не бойся, Давид. У тебя доброе сердце. Никто не причинит тебе зла.
Он опять посмотрел мальчику в глаза, встал и подтолкнул его к величественному порталу с серебряными колоннами и шитой занавесью из красного, синего и багряного шелка.
– Ступай. Да пребудет с тобой Господь!
Мальчик бросил прощальный взгляд на могучую фигуру своего проводника, возвышавшуюся на фоне пламенеющего неба, повернулся и, отодвинув завесу, прошел в окаймленный колоннами зал с полом из отшлифованного мрамора и уносящимся ввысь потолком. Внутри Мишхана было прохладно и веяло сладким, обволакивающим ароматом. Шум кипевшей снаружи битвы был столь слабым, что казалось, будто она идет в ином мире.
–Шема Исраель, Адонаи элохену, Адонаи эхад, – прошептал Давид. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единственный».
Помолчав мгновение, он снова прочитал молитву и медленным шагом двинулся в дальний угол зала, бесшумно касаясь мраморного пола. Он увидел перед собой реликвии Храма: стол для хлебов предложения, золотой, пропитанный фимиамом алтарь, семиконечную менору. За ними, прикрытый прозрачной шелковой завесой, находился вход вдебир, Святая Святых Храма, куда мог попасть один только первосвященник, да и то раз в году – в День искупления.
– Добро пожаловать, Давид, – раздался голос. – Я ждал тебя.
Слева от себя мальчик увидел пожилого человека с узким морщинистым лицом и седой бородой. Первосвященник Матфей! На нем была накидка небесно-голубого цвета с красным и золотистым передником; вокруг головы он носил тонкую диадему, а на грудиэфод – сакральную нагрудную пластину, двенадцать драгоценных камней которой символизировали колена Израилевы.
– Вот мы и встретились, сын Иуды, – произнес Матфей мягким голосом, подойдя к мальчику и глядя на него сверху вниз. По краям его мантии были подвешены крошечные колокольчики, звеневшие при малейшем движении. – Ювелир Елеазар много мне рассказывал о тебе. Он назвал тебя самым бесстрашным из защитников святых мест. И самым надежным. Как будто царь Давид воскрес и пришел нам на помощь. Так и сказал.
Он посмотрел на мальчика и повел его за руку вперед, к самому концу зала. Они остановились перед золотой менорой, чьи изгибающиеся ветви и причудливо орнаментированный ствол были выкованы из цельного куска золота, а форму создал сам Всевышний. Мальчик в ошеломлении смотрел на мерцающие лампады, глаза его блестели, как будто отражая солнечный свет от водной глади.
– Великолепно, не правда ли? – спросил старец, заметив, как лицо мальчика застыло в благоговейном созерцании. Не дожидаясь ответа, Матфей положил руку на плечо Давида и продолжил: – Нет на Земле предмета, более священного, более дорогого для нашего народа, ибо свет, излучаемый священной менорой, есть свет самого Господа Бога. И если бы мы ее потеряли…
Он вздохнул и коснулся рукой нагрудной пластины.
– Елеазар хороший человек, – добавил он как бы в раздумье. – Второй Бецалель.
Они долго простояли в тишине, озаряемые светом семисвечника. Вдруг первосвященник наклонился к мальчику, приблизившись к его лицу, и быстро сказал:
– Сегодня Господь решил, что его Священный Храм падет точно так же, как и шестьсот лет назад, день в день, когда вавилоняне покорили Дом Соломона. Священные камни Храма будут растоптаны в пыль, крыша вдребезги разбита, а народ наш рассеется по свету.
Он немного подался назад и взглянул в глаза мальчика.
– У нас осталась одна надежда, Давид, наша последняя надежда. Великая тайна, о которой знают лишь некоторые из нас. Ныне, когда настали последние часы, ты также узнаешь о ней.
Матфей наклонился к мальчику и торопливо заговорил, понизив голос, чтобы его не услышали, хотя в зале никого, кроме них, и не было. Мальчик внимал словам старца, широко раскрыв глаза; его взгляд перемещался с пола на менору и снова на пол, его плечи дрожали. Закончив шептать, первосвященник распрямился во весь рост и отошел на шаг назад.
– Понимаешь, – слабая улыбка проступила на бледных губах, – даже в поражении будет одержана победа. И даже во тьме воссияет луч света.
Мальчик молчал; его одолевали одновременно и удивление, и недоверие.
Первосвященник провел рукой по волосам и снова обратился к Давиду:
– Он уже вне города, за римским лагерем. Теперь он должен покинуть эту страну, ибо наш конец близок, и сберечь его не удастся. Все готово, осталось только найти курьера – того, кто доставит его куда необходимо и подождет там до лучших времен. Тебе поручается это, Давид, сын Иуды. Но только с твоего согласия. Ты принимаешь задание?
Взгляд мальчика поднялся вверх, к глазам первосвященника, как будто подтянутый невидимыми нитями. Серые глаза старца испускали странный гипнотизирующий свет, как облака, плывущие по огромному ясному небу. Мальчик почувствовал тяжесть и одновременно – словно он воспарил в воздухе.
– Что мне надо сделать?
Старец опустил взор на Давида, вглядываясь в отдельные черты его лица как в слова в книге. Потом, склонившись, Матфей засунул руку в складки накидки, вытащил маленький сверток пергамента и протянул его мальчику.
– Вот тебе напутствие. Следуй ему, и ты справишься.
Он обнял мальчика.
– Один ты сейчас наша надежда, Давид, сын Иуды. Один ты можешь не дать пламени погаснуть. Никому не раскрывай эту тайну. Храни ее всю жизнь и передай своим детям, они же пусть передадут детям своих детей, а те – детям своих детей, и так до тех пор, пока не настанет назначенный час.
Мальчик пристально смотрел на первосвященника.
– А когда он настанет, владыка? Как понять, что время пришло?
Матфей еще мгновение смотрел на мальчика, затем обернулся в сторону меноры, вглядываясь в ее дрожащее сияние и постепенно опуская веки, будто впадая в транс. Обволакивающая тишина воцарилась в зале; драгоценные камни нагрудной пластины первосвященника искрились.
– Три приметы помогут тебе. – Его голос звучал так отдаленно, словно он говорил откуда-то с высоты. – Во-первых, должен прийти самый младший из двенадцати, и будет сокол у него на руке; во-вторых, сын Исмаила и сын Исаака станут друзьями в Доме Божьем; наконец, в-третьих, лев и пастух соединятся в одно существо, с лампой на шее. Эти приметы укажут, что пробил назначенный час.
Завеса храмового святилища слегка затрепетала, и мальчик ощутил на лице легкую прохладу ветра, внезапно появившегося неизвестно откуда. Ему послышались странные голоса, его кожа зудела; в ноздри проникал необычный запах, такой сложный и затхлый, словно им пахло само время.
Они стояли в загадочной тишине, как вдруг снаружи раздался страшный грохот и тысячи голосов извергли крик ужаса и отчаяния. Первосвященник вмиг раскрыл глаза.
– Конец близок, – сказал он. – Повтори приметы!
Мальчик, робея и запинаясь, последовал повелению. Старец заставил его повторить приметы еще раз, затем еще и еще, пока мальчик не отчеканил каждое слово. В это время шум битвы вовсю гремел в стенах святилища. Вопли жертв, звон оружия, грохот падающих камней были слышны уже совсем близко. Матфей поспешил в противоположный конец зала и, взглянув в проходной проем, в ужасе отпрянул.
– Враг вошел в Ворота Никанора! – вскричал он. – Тебе нельзя возвращаться прежним путем. Иди сюда, помоги мне!
Старец ухватился за ствол меноры и начал тащить ее по полу. Мальчик поспешил к нему на помощь, и вместе они сдвинули семисвечник на метр влево. Перед ними показалась квадратная мраморная плита с двумя рукоятями. Первосвященник приподнял плиту, отворив темный проем, за которым виднелась узкая винтовая лестница, уходившая в мрачные глубины здания.
– В Храме много потайных ходов, – сказал Матфей, взяв мальчика за руку и отводя его к открывшемуся отверстию, – и этот самый секретный. Спускайся по лестнице и иди прямо по туннелю, не отклоняясь в сторону. Он выведет тебя за черту города, за южную окраину, достаточно далеко от римского лагеря.
– Но как же…
– Сейчас нет времени! Беги! Ты единственная надежда нашего народа. Отныне тебя будут звать Шомер Ха-Ор. Оставь это имя, чти его и передай потомкам. Бог будет тебе защитником. И судьей.
Матфей наклонился, поцеловал мальчика в обе щеки и, опустив руку ему на голову, толкнул вниз. Затем первосвященник закрыл плитой отверстие, схватил менору и с трудом протащил ее по полу, тяжело дыша от напряжения.
Едва он успел вернуть ее на место, как в дальнем конце зала послышались крики и бряцанье стальных лезвий. Ювелир Елеазар пятился за порог, одна рука его беспомощно повисла, на месте локтя зияло кровавое пятно, другой он сжимал молот, которым бешено хлестал по надвигавшейся стене легионеров. На какое-то время Елеазару удалось сдержать их напор, затем, ревя, они устремились вперед и опрокинули его наземь, кромсая и топча тело ювелира.
– Яхве! – завопил он. – Яхве!
Первосвященник наблюдал за кровавой сценой, не меняясь в лице, потом повернулся, набрал пригоршню ладана и просыпал его на золотой алтарь. Облако благоухающего тумана взметнулось в воздухе. Он услышал позади себя топот римских кованых сандалий, звяканье оружия, эхом отражающееся по стенам.
– Господь стал на сторону врага, – прошептал Матфей слова пророка Иеремии. – Он разрушил Израиль, разрушил все его дворцы, превратил в руины его крепости.
Римляне уже стояли за спиной первосвященника. Он прикрыл глаза. Раздался смех и свист поднятого вверх меча. Казалось, что время остановило свое течение; потом меч понесся вниз и, вонзившись между плеч Матфея, рассек его тело.
– Да упокойся в Вавилоне! – прохрипел он, и кровь брызнула из уголков его рта. – В Вавилоне, в доме Абнера!
Безжизненный, он упал лицом вперед, у ствола великой меноры. Легионеры отбросили труп в сторону, забрали сокровища Храма и вышли из святилища.
– Vicerunt Romani! Victi Iudaei! Vivat Titus![3] – гремели их голоса.
Южная Германия, декабрь 1944 г
Ицхак Эдельштейн туже закутался в полосатую робу и подул на фиолетовые от холода руки. Он пригнулся и выглянул из кузова, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь, но из-под низко свисающего брезента смог увидеть только грязную дорогу, быстро мелькающие стволы деревьев и бампер следовавшего за ними грузовика. Прижав лицо к разрезу в брезенте, Ицхак успел разглядеть крутой лесистый склон, засыпанный снегом, пока приклад винтовки не опустился на его лодыжку.
– Повернись. Сиди смирно.
Он выпрямился и уставился на свои голые ноги в изношенных ботинках, мало согревавших в зимний мороз. Сидевший рядом немощный раввин снова начал кашлять и трястись так, словно кто-то шатал его из стороны в сторону. Ицхак взял в ладони руки старика и стал тереть их, стараясь передать немного тепла.
– Не трогай! – потребовал конвоир.
– Но…
– Ты что, оглох? Сказал же – не трогай.
Солдат направил винтовку на Ицхака, и старик убрал руки.
– Не беспокойся, мой юный друг, мы, раввины, много крепче, чем кажется.
Слабая улыбка выступила на иссохшем лице. Заключенные замолчали, опустив головы, дрожа и толкая друг друга на поворотах.
Их было шестеро, не считая двух конвоиров: четыре еврея, гомосексуалист и коммунист. Ранним утром их вывели из лагерных бараков, затолкали в грузовик и повезли. Ицхак предполагал, что машина едет куда-то на юго-восток. Вначале грунт под колесами был относительно ровный и сырой, а дорога шла прямо, но последний час грузовик неустанно кружил и набирал высоту, а пастбища и леса по обеим сторонам дороги покрылись снегом. Вслед за ними ехал другой грузовик, в кабине которого сидели водитель и какой-то мужчина в кожаном пальто. Людей в кузове у них, насколько Ицхак мог понять, не было.
Он провел рукой по бритой голове, к которой так и не смог привыкнуть за четыре года, и, ссутулившись, засунув руки под мышки, постарался забыть о терзавших его холоде и голоде, предавшись греющим душу воспоминаниям. В памяти всплыли семейные обеды в дрезденском доме, занятия в старой иешиве[4], праздничное веселье, особенно на Хануку, когда всюду лился яркий свет. И конечно, Ривка, очаровашка Ривка, его младшая сестренка. «Ици-шмици-ици-бици! – напевала она, дергая кисточки талита катана[5]. – Ици-вици-мици-дици!» Как заразительно она смеялась, как шаловливо сплетались в узел ее черные волосы, как дерзко горели ее глаза! Она была такой упрямой и непослушной! «Свиньи! – орала она, когда отца выволокли на улицу и отрезали ему пейсы. – Грязные, вонючие свиньи!» Солдаты таскали ее за волосы, а потом бросили лицом к стене и расстреляли.
Ей было всего тринадцать лет. О Ривка! Милая малышка Ривка…
Грузовик влетел в канаву и резко подпрыгнул, вмиг вернув Ицхака к мрачной реальности. Он оглянулся и увидел, что они проезжают крупное поселение. Голова потянулась к прорези в брезенте, и в этот момент промелькнула указательная табличка с названием местности – Берхтесгаден. Название показалось ему смутновато знакомым, но определить их местоположение Ицхак все же не мог.
– Назад! – гаркнул конвоир. – Дважды повторять не буду!
Они ехали еще около получаса по более наклонной и извилистой дороге, пока из следовавшего за ними грузовика не раздался резкий гудок. От неожиданного торможения заключенных бросило вперед.
– Вылезай! – скомандовали конвоиры, направив на них дула винтовок.
Цепляясь за борта и ежась от холода, заключенные вылезли из кузова. Белые клубы пара повалили изо рта и ноздрей. Они встали на придорожной площадке рядом с обветшалым зданием с окнами без стекол и осевшей крышей, за которым простирался густой сосновый бор. Далеко внизу, сквозь заснеженные ветви, виднелись клочки зеленых лугов с разбросанными на них почти игрушечными домиками, над которыми вился выходивший из труб дым. Выше склон становился еще круче, а очертания его терялись в туманной дымке, сквозь которую проступали темные контуры – вероятно, больших гор. В лесу стояла гробовая тишина и было очень холодно. Ицхак затопал одеревеневшими ногами.
Второй грузовик тоже остановился. Из окна выглянул сидевший рядом с водителем мужчина в пальто с поднятым воротником и, жестикулируя, сказал что-то одному из конвоиров. По-видимому, это был командир группы.
– Марш сюда! – приказал конвоир и подвел заключенных к кузову второго грузовика. Потом поднял брезентовую накидку, за которой был скрыт большой деревянный ящик.
– Вытаскивайте его! Да поживей!
Ицхак и коммунист – изможденный мужчина с красным треугольником на штанине (у Ицхака был желтый треугольник, перекрытый зеленым, что означало «еврей-уголовник») – вскарабкались в кузов и ухватили ящик с двух боков. Ящик оказался настолько тяжелым, что они с трудом смогли сдвинуть его к борту. Другие заключенные, оставшиеся стоять на земле, осторожно подхватили груз и поставили его на скользкую дорогу.
– Нет-нет! – закричал мужчина в пальто, высовываясь из кабины. – Пусть несут! Туда! – Он указал рукой на тропинку, начинавшуюся за обветшалым зданием и убегавшую вверх по свежему снегу, скрываясь из виду за деревьями. – И проследите, чтобы тащили поаккуратней!
Заключенные перекинулись боязливыми взглядами, медленно подняли ящик и понесли, сгибаясь под его тяжестью.
– Плохо наше дело, – пробормотал коммунист. – Очень плохо.
Они вошли в лес, проваливаясь в снег по самые икры. За ними шагали конвоиры и мужчина в пальто, но Ицхак не оглядывался, опасаясь потерять равновесие. Шедший спереди раввин начал истошно кашлять.
– Позвольте, я приму на себя часть вашего груза, – прошептал Ицхак. – Я крепкий парень, мне не тяжело.
– Ты лжешь, Ицхак, – прохрипел старик. – И очень неправдоподобно.
– Молчать! – закричал сзади конвоир. – Отставить разговоры!
Они поползли вверх, горбясь под тяжестью груза и замерзая. Пролесок, вначале извивавшийся по относительно плоской поверхности, теперь круто пошел вверх, а снег становился все глубже. На одном особенно обрывистом месте гомосексуалист потерял опору и споткнулся, так что ящик накренился вперед и рухнул на дерево. Верхний левый край поклажи треснул, и полетели щепки.
– Идиот! – закричал мужчина в кожаном пальто. – Подымите его!

