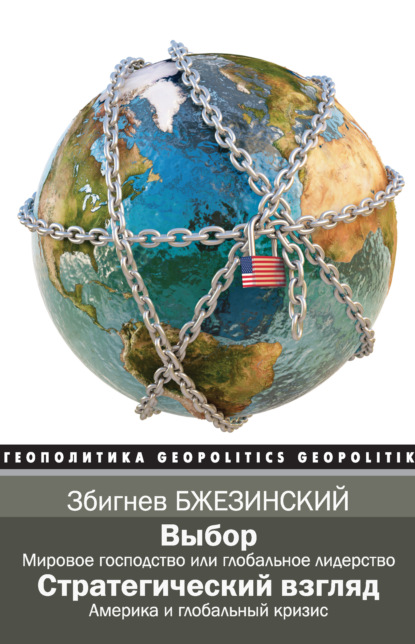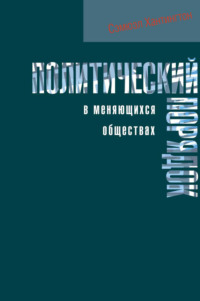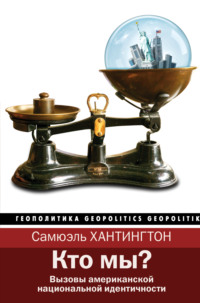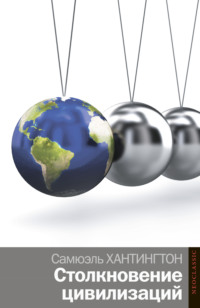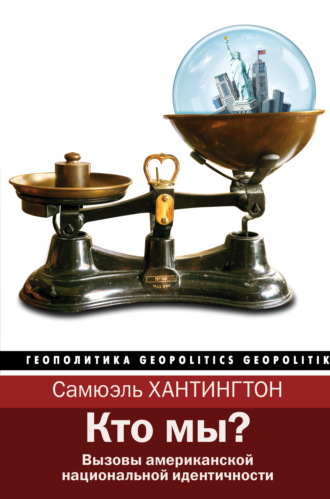
Полная версия
Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности
Идентичности также различаются по степени интенсивности. Самоидентификация зачастую зависит от масштабов: люди охотнее, интенсивнее отождествляют себя с семьей, а не с политической партией (впрочем, не всегда). Более того, значимость идентичностей всех типов варьируется под влиянием взаимодействия индивида или группы с окружающей средой.
Узкие и широкие идентичности в рамках одной иерархии могут усиливать друг друга или конфликтовать одна с другой. Эдмунд Берк обронил знаменитую фразу о том, что главный принцип (зародыш) общественного поведения – привязанность к малому, к тому фрагменту социума, к которому мы принадлежим: «Любовь к целому отнюдь не устраняется этой привязанностью к малому». «Феномен фрагмента» является ключевым для достижения военного успеха. Страны выигрывали войны, армии побеждали в сражениях благодаря тому, что солдаты интенсивно отождествляли себя с собратьями по оружию. А невозможность формирования единого сознания в малой группе неизбежно ведет к поражению – как узнали американские военные во Вьетнаме. Иногда, правда, узкие привязанности вступают в конфликт с широкими и даже подменяют собой последние, как это происходит с территориальными движениями за автономию и независимость. Иными словами, мира и покоя внутри иерархии идентичностей не наблюдается.
Ложная дихотомия
Нации, национализм и национальные идентичности в общем и целом суть порождения колебаний европейской истории в период между пятнадцатым и девятнадцатым столетиями. Война создала государство, она также породила нации. «Ни одна нация, в истинном смысле этого слова, – утверждает выдающийся историк Майкл Говард, – не могла возникнуть без войны… Никакое самоопределившееся сообщество не могло утвердиться в качестве нового, независимого игрока на мировой арене без вооруженного конфликта или угрозы такового»26. Люди формируют ощущение национальной идентичности в сражениях за дифференциацию с теми, кто говорит на другом языке, исповедует другую религию, хранит другие традиции или просто живет на другой территории.
Французы, англичане, а следом за ними голландцы, испанцы, пруссаки, германцы и итальянцы «выплавили» свои национальные идентичности в тигле войны. Чтобы выжить и преуспеть, европейские короли и принцы в шестнадцатом – восемнадцатом столетиях неустанно мобилизовывали экономические и людские ресурсы своих владений, тем самым постепенно создавая профессиональные национальные армии взамен наемных войск. Одновременно шли процессы формирования национального сознания и противопоставления одной нации другим. К 1790-м годам, писал Р. Р. Палмер, «войны королей завершились, начались войны народов»27. Слова «нация» и «отечество» проникли в европейские языки лишь к середине восемнадцатого столетия. Характерный образчик обретения национальной идентичности у европейских народов – возникновение британской идентичности. Английская идентичность сформировалась в войнах с французами и шотландцами. Британская же идентичность сложилась позднее – но тоже в итоге «прежде всего войны. Снова и снова бритты сражались с французами, снова и снова вступали в вооруженную конфронтацию с врагом, откуда бы тот ни являлся – из Уэльса, из Шотландии, из самой Англии; снова и снова коллективно защищались от нападений Другого. В своих глазах они сами выглядели протестантами, сражающимися за выживание с олицетворением могущества католического мира»28.
Если принять как данность, что нации и национальные государства исторически возникли в результате войн, придется отвечать на вопрос, возможно ли поддерживать национальную идентичность в мирное время. Не ослабляет ли продолжительный мир значимости национальной идентичности в сравнении с прочими и не ведет ли он к эрозии патриотизма и к обострению конфликтов между людьми, прежде считавшими себя представителями одной нации, противопоставляемой другим?
Исследователи, как правило, выделяют два типа национализма и национальной идентичности, причем дают им различные названия: гражданский и этнический, или политический и культурный, или революционный и трайбалистский, или либеральный и интегральный, или рационально-ассоциативный и органически-мистический, или гражданско-территориальный и этнико-генеалогический, – или просто патриотизм и национализм29. В каждой паре первый ее член рассматривается как «хороший», а второй – как «плохой». «Хороший», гражданский национализм подразумевает существование открытого общества, основанного (по крайней мере в теории) на общественном договоре, к которому могут присоединиться и тем самым стать гражданами этого общества люди любой расы, любой национальности. Этнический национализм, по контрасту, является ограничительным: «членство» в нации доступно лишь тем, кто обладает определенным набором базовых этнических и культурных признаков. В начале девятнадцатого столетия, по мнению ученых, усилия европейских народов по созданию национальных идентичностей носили выраженный гражданский характер. Националистические движения ратовали за равенство граждан, отвергая классовые и сословные отличия. Либеральный национализм бросал вызов авторитарным многонациональным империям. Позднее романтики и их последователи, прославляя «народность» и поставив этническое сообщество выше отдельного человека, создали «непросвещенный» этнический национализм, который достиг своего апофеоза в гитлеровской Германии.
Дихотомия между гражданским и этническим национализмом, как их ни назови, существенно упрощает реальную картину и потому не выдерживает критики. В большинстве упомянутых выше пар этническая категория является своего рода вместилищем всех тех форм национализма и национальной идентичности, которые не удалось отнести к гражданским, либеральным или договорным. В частности, эта категория вмещает в себя две совершенно разные концепции национальной идентичности – этнически-расовую и культурную. Читатель, возможно, заметил, что выше мы не упомянули «нацию» в числе возможных источников идентичности. Причина этого следующая: на Западе национальная идентичность время от времени становилась основной формой идентичности, однако она оставалась «производной» и черпала свою интенсивность из других источников. Таковая идентичность обычно (но не всегда) включает в себя территориальный элемент, а также элементы аскриптивные (раса, этническая принадлежность), культурные (религия, язык), политические (государство, идеология) и даже экономические (сельское хозяйство) и социальные (сети и сетевые коммуникации).
Главный тезис этой книги – сохраняющийся приоритет англо-протестантской культуры в американской национальной идентичности; но слова «культура» имеет, как известно, множество значений. Чаще всего его используют применительно к «культурным продуктам» общества, подразумевая как «высокую» культуру (искусство, литература, музыка), так и «низкую» (массовые развлечения, предпочтения потребителей). В этой книге слову «культура» придан несколько иной смысл. Под «культурой» мы понимаем совокупность языка, религии, общественных и политических ценностей, социального кодекса, разграничивающего «хорошее» и «дурное», «допустимое» и «недопустимое», а также общественных институтов и поведенческих структур, отражающих эти субъективные элементы. Приведем пример, более подробно рассматриваемый в главе четвертой: большинство трудоспособных американцев работают дольше, отдыхают меньше и позднее выходят на пенсию, нежели жители других промышленно развитых стран; в Америке ниже уровень безработицы и инвалидности и скромнее пенсионные льготы. Кроме того, большинство американцев сильнее гордятся своей работой, воспринимают отдых как нечто не слишком достойное и даже испытывают чувство вины, когда отдыхают, презирают тех, кто не работает, считают рабочую этику ключевым элементом представления о типичном американце. Кажется вполне разумным заключить из вышесказанного, что объективный и субъективный акценты на работе являются отличительной характеристикой американской культуры в сравнении с другими культурами. Именно в этом смысле слово «культура» и употребляется в данной книге.
Гражданско-этническая дихотомия объединяет культурные и аскриптивные элементы, которые разительно отличаются друг от друга. Разрабатывая свою этническую теорию, Хорас Каллен утверждал, что, сколь бы иммигрант ни изменился, «он не сможет изменить своего деда»30. Отсюда следует, что этнические идентичности остаются фактически неизменными. Межнациональные браки опровергают это утверждение, а еще более важным доводом является различие между традициями и культурой. Человек не в состоянии изменить своих предков, и в этом смысле этническое наследие трактуется как данность. Точно так же человек не в силах поменять цвет кожи, хотя значимость цветов кожи в разных обществах разнится. Однако человек в силах сменить культуру. Люди переходят из одной веры в другую, учат иностранные языки, принимают новые ценности и убеждения, отождествляют себя с новыми символами, подстраиваются под новый образ жизни. Культура младшего поколения зачастую сильно отличается от культуры предыдущих поколений. Временами происходят и глобальные перемены в культурах обществ. Перед Второй мировой войной и после нее Германия и Япония определяли свою национальную идентичность преимущественно в аскриптивных, этнических терминах. Поражение в войне изменило стрежневой элемент обеих культур. Две самых милитаризированные страны земного шара в 1930-х годах превратились в две наиболее миролюбивые. Культурная идентичность трансформируема, идентичность же этническая трансформации не подлежит. Поэтому необходимо проводить между ними четкое различие.
Важность ключевых элементов национальной идентичности варьируется в зависимости от исторического опыта народа. Часто какой-либо источник идентичности волей обстоятельств оказывается доминирующим. Германская идентичность включает лингвистические и прочие культурные элементы, но была аскриптивно определена законом 1913 года в расовых терминах. Немцем может считаться лишь тот, чьи родители были немцами. В результате потомки немецких переселенцев, обосновавшихся в России в восемнадцатом веке, признаются немцами и, если они эмигрируют в Германию, автоматически получат немецкое гражданство – несмотря на то, что язык, на котором они говорят (если говорят вообще), будет непонятен большинству новых соотечественников, а их привычки и традиции коренному немцу покажутся совершенно дикими. По контрасту, потомки (в третьем поколении) турецких переселенцев, которые выросли в Германии, получили в ней образование, нашли работу и бегло говорят по-немецки, вплоть до 1999 года сталкивались с непреодолимыми препятствиями при попытках получить немецкое гражданство.
В бывших Советском Союзе и Югославии национальная идентичность определялась политически, через коммунистическую идеологию, насаждавшуюся правящими режимами. В этих странах проживали люди множества национальностей, каковые национальности были официально признаны на культурном уровне. С другой стороны, французы на протяжении полутора столетий (считая с 1789 г.) были политически разделены на два народа – mouvement и l’ordre etabli, которые категорически отказывались искать соглашения относительно того, нужно или нет признать законным все произошедшее в период Французской революции. Поэтому французская идентичность определялась культурой. Иммигранты, которые вели французский образ жизни и, что важнее, прекрасно говорили по-французски, признавались французами. В отличие от Германии, французский закон гласил, что любой человек, рожденный во Франции, пускай от родителей-иностранцев, признается французским гражданином. Правда, это положение подкорректировали в 1993 году: теперь отпрыскам иностранцев, рожденным на территории Франции, вменялось в обязанность подавать прошение о получении гражданства до наступления восемнадцатилетнего возраста. Это было сделано из опасения, смогут ли дети иммигрантов из мусульманской Северной Африки проникнуться французской культурой. Но в 1998 году ограничения ослабили: сегодня дети, рожденные на территории Франции от родителей-иностранцев, автоматически становятся французскими гражданами в возрасте восемнадцати лет, если к тому времени прожили на французской земле пять лет подряд, с одиннадцати до восемнадцати.
Значимость составных элементов национальной идентичности переменчива. В конце двадцатого столетия немцы и французы в большинстве своем отвергли авторитарные элементы идентичности и приобщились к демократическим ценностям. Во Франции прославляют революцию, в Германии ниспровергают фашизм. С окончанием «холодной войны» лишилась национальной идентичности Россия: малая часть общества осталась приверженной коммунистической идеологии, некоторые отождествили себя с Европой, другие пытаются определиться через культурные элементы – православие и панславизм, третьи, исходя из географического местоположения страны, рассуждают о России как об евразийской державе.
И Германия, и Франция, и Россия (СССР) на протяжении своей истории устанавливали различные приоритеты среди элементов национальной идентичности, и значимость этих элементов менялась с течением времени. То же самое верно и в отношении других стран. А что же Америка? Какой преимущественно была ее идентичность – аскриптивной, территориальной, культурной, политической, экономической? И как она менялась за столетия своего существования?
Часть II
Американская идентичность
Глава 3
Элементы американской идентичности
Переменные, константы и частичная правда
Частичная правда, или полуправда, часто оказывается куда более коварной, нежели откровенная ложь. Последнюю легко одолеть и опровергнуть доказательствами, поэтому она с гораздо меньшей вероятностью будет принята в качестве безоговорочной истины. А вот частичная правда бывает весьма убедительна, поскольку подтверждается кое-какими фактами и ее потому нетрудно принять за истину. Размышления об американской идентичности в обществе основываются на двух положениях, каждое из которых правдиво лишь отчасти, но регулярно принимается за истину в последней инстанции. Первое положение гласит, что Америка является государством иммигрантов; второе – что американская идентичность определяется комплексом политических принципов, то есть так называемым «американским кредо». Эти две основы американского общества нередко описываются вместе. Утверждается, что кредо объединяет разрозненные иммигрантские национальности и представляет собой, как выразился Гуннар Мюрдаль, «цемент, скрепляющий структуру этой великой и ни с кем не сравнимой нации». Что касается американской идентичности, она, по выражению Стэнли Хоффмана, есть уникальный продукт «материального фактора» – этнического разнообразия, порожденного иммиграцией, и «идеологического фактора» – либерально-демократического кредо31.
В этих утверждениях безусловно присутствует правда: иммиграция и вера суть ключевые элементы американской национальной идентичности. Но необходимо учитывать, что оба этих элемента являются частичными – ни тот, ни другой не выражают сути американской идентичности. Ни тот, ни другой не объясняют нам, чем именно это общество, это государство привлекает иммигрантов и почему именно эта культура создала «американское кредо».
Америка – «искусственное образование», государство, основанное европейскими переселенцами в семнадцатом – восемнадцатом столетиях; эти переселенцы в массе своей были белыми британцами и протестантами. Их философия, их традиции, их культура заложили основы американского общества и на многие годы вперед определили стезю развития Америки. Первоначально идентификация происходила через выявление этнической и культурной принадлежности, прежде всего – через религию. В восемнадцатом столетии пришлось определиться идеологически, дабы оправдать независимость от бывших соотечественников в Европе. Белый цвет кожи, британское происхождение, протестантизм, независимость – таковы основные элементы американской идентичности в восемнадцатом и девятнадцатом веках. В последние годы девятнадцатого века этнический элемент идентичности был расширен и включал в себя не только англичан, но и немцев, ирландцев и скандинавов. К началу Второй мировой войны, с нарастанием потока иммигрантов из стран Южной и Восточной Европы, этническая идентификация фактически прекратила свое существование в качестве ключевого элемента американской идентичности. После войны ее судьбу повторила идентификация расовая – благодаря движению за гражданские права и закону об иммиграции 1965 года. В результате к 1970-м годам американская идентичность определялась через культуру и веру. Именно тогда англо-протестантская культура, три столетия подряд служившая стержнем общества, подверглась первым нападкам и возникла пугающая перспектива: определение национальной идентичности исключительно через веру, то есть через идеологию. В табл. 1 (в чрезвычайно упрощенном виде) показана меняющаяся значимость четырех основных элементов американской идентичности.
Таблица 1

Первопоселенцы: до иммиграции
Большую часть своей истории Америка не слишком гостеприимно встречала иммигрантов и вовсе не радовалась тому, что ее называют «страной беженцев». После введения в 1924 году сурового антииммиграционного законодательства отношение к американским иммигрантам мало-помалу начало меняться. Этому немало способствовало знаменитое обращение президента Франклина Рузвельта к Дочерям американской революции в 1938 году: «Помните, помните всегда, что все мы, а мы с вами в особенности, ведем свой род от иммигрантов и революционеров». Президент Кеннеди процитировал эти слова в своей книге «Нация иммигрантов», опубликованной посмертно; однако и до него, и после его смерти эту фразу многократно повторяли исследователи и журналисты. Ведущий историк американской иммиграции Оскар Хэндлин утверждает, что «иммигранты – неотъемлемая часть истории Америки, ее подлинная история». Выдающийся социолог Роберт Белла вторит президенту Рузвельту: «Все американцы, за исключением индейцев, – иммигранты или потомки иммигрантов»32.
Эти утверждения также представляют собой не всю правду, а лишь часть правды. Рузвельт в известной мере ошибался, когда заявил, что все американцы ведут свой род от «революционеров»; но эта ошибка выглядит ничтожной по сравнению с притязаниями на происхождение самого президента и его аудитории от «иммигрантов». Предки президента Рузвельта и Дочерей американской революции были не иммигрантами, а переселенцами, и на заре своего существования Америка была не государством иммигрантов, но обществом (и даже обществами) переселенцев, которые перебрались в Новый Свет в семнадцатом и восемнадцатом столетиях. Именно англо-протестантская культура переселенцев оказала наибольшее влияние на формирование американской культуры, американского пути и американской идентичности. Утверждать, что иммигранты – сама история Америки, означает игнорировать факты и оставлять без внимания истинные движущие силы исторического процесса в США.
Иммигранты разительно отличаются от переселенцев. У последних имелось собственное сообщество, они объединялись в группы, ставившие целью создание «новой земли», «града на холме» на далеких новых территориях. Ими двигало осознание великой цели. Они подписывали – въяве или мысленно – некий договор, или хартию, определявшую основные принципы устроения нового общества и коллективных взаимоотношений с родиной. По контрасту, иммигранты не создают нового общества. Они лишь перемещаются из одного существующего общества в другое. Миграция, как правило, носит личностный характер, затрагивая отдельных людей или же семьи, которые индивидуально определяют свои отношения со старой и новой странами проживания. Переселенцы стремились в Америку потому, что в семнадцатом и восемнадцатом столетиях она была tabula rasa. Не считая индейских племен, которые истребляли или отгоняли на запад, в Америке не было сложившихся обществ; переселенцы прибывали на материк, дабы создавать эти общества, воплощавшие и пропагандировавшие те моральные ценности, ради которых люди покидали родную страну. Иммигранты же стремились всего-навсего стать частью общества, которое создали переселенцы. В отличие от своих предшественников, они переживали «культурный шок», пытаясь воспринять культуру, в значительной мере отличающуюся от их собственной33. Прежде чем иммигранты смогли перебраться в Америку, переселенцы должны были ее основать.
Различия между иммигрантами и переселенцами отчетливо осознавались теми, кто привел Америку к независимости. Еще до революции, как замечает Джон Хайам, английские и голландские колонисты «воспринимали себя как основателей, первопоселенцев, основоположников – сеятелей нового, творцов новых обществ, – но не как иммигрантов. Им принадлежали форма управления и язык, рабочий распорядок и правила общежития, равно как и многие установления, к которым иммигранты вынуждены были приспосабливаться»34. Само понятие «иммигрант» пришло в английский язык около 1780 года из Америки, где стали так называть новоприбывающих, чтобы отделить их от первопоселенцев.
Американцы обычно называют тех, кто добился независимости и принял конституцию, отцами-основателями. Однако отцам-основателям, вершившим свои дела в 1770–1780-е годы, предшествовали первопоселенцы. Америка началась не в 1775, 1776 или 1787 годах. Она началась с первыми лагерями поселенцев, в 1607, 1620 и 1630 годах. События 1770–1780-х годов – лишь утверждение в Америке англо-протестантской культуры, развившейся в Европе за полтора столетия, минувших с высадки на американском берегу первопоселенцев.
Стержневой культурой Америки была и по сей день остается та самая культура, которую принесли с собой первопоселенцы. Ключевой элемент этой культуры может быть определен множеством способов, однако он будет непременно включать в себя христианскую религию, протестантские ценности и мораль, рабочую этику, английский язык, британские традиции права, справедливости и ограничений власти правительства, а также европейскую традицию искусства – литературы, живописи и скульптуры, философии, музыки. На основании этой культуры первопоселенцы выработали «американское кредо» с его принципами свободы, равенства, ценности отдельной личности, уважения прав граждан, репрезентативного правительства и частной собственности. Последующие поколения иммигрантов поглощались этой культурой первопоселенцев, платили ей своеобразную дань и понемногу ее модифицировали. Однако глобальных перемен не происходило – и произойти не могло. До конца двадцатого столетия именно англо-протестантская культура, англо-протестантские ценности и институты влекли иммигрантов в Америку.
По своему происхождению и по стержневой культуре Америка, таким образом, является колониальным обществом, в исконном, буквальном смысле слова «колония», то есть «поселение, основанное людьми, которые покинули родину в поисках лучшей доли». Этот исконный, буквальный смысл слова разительно отличается от того, который слово «колония» приобрело позднее – «заморская территория, подчиняющаяся правительству другого народа». Историческими прототипами колоний, основанных в Америке семнадцатого столетия англичанами, французами и голландцами, могут послужить греческие (афинские, коринфские и пр.) колонии на Сицилии, основанные в восьмом-седьмом веках до н. э. Схож сам процесс заселения новой территории и ее освоения, несмотря на разделяющие эти периоды две с лишним тысячи лет 35.
Поселенцы, основывавшие колонии, оказали существенное и продолжающее ощущаться по сей день влияние на культуру новых поселений. Эти, как выразился историк Джон Портер, «договорные группы» во многом «определили дальнейшее развитие общества, фактически став его собственниками». Антрополог Уилбур Зелински назвал этот феномен «доктриной эффективности первых поселений». На новых территориях, по мнению Зелински, «отличительные характеристики группы, сумевшей создать жизнеспособное общество, в последующем будут иметь решающее значение для социальной и культурной географии данной местности, вне зависимости от того, сколь многочисленна или малочисленна была эта группа. С точки зрения продолжительности эффекта деятельность нескольких сотен и даже нескольких десятков человек может значить для культурной географии куда больше, нежели свершения десятков тысяч иммигрантов несколькими поколениями позднее»36.
Итак, первопоселенцы принесли с собой на новые земли собственную культуру, которая утвердилась в новом мире и сохранилась практически в неизменности, тогда как на родине поселенцев эта культура подвергалась изменениям. «Новая нация нова отнюдь не во всем, – писал один исследователь, изучавший первые римские колонии в Испании. – Колонисты, как подтверждается историческими фактами, сохраняют обычаи и речевые обороты, вышедшие из употребления на их родине; испанский язык восходит к форме латыни, более архаической, чем та, из которой образовался язык французский. Испанские римляне, как представляется, истово хранили верность римским традициям. С другой стороны, это не мешало им добиваться успехов в освоении оторванных от родины территорий». Схожее наблюдение относительно Квебека содержится и у Токвиля: