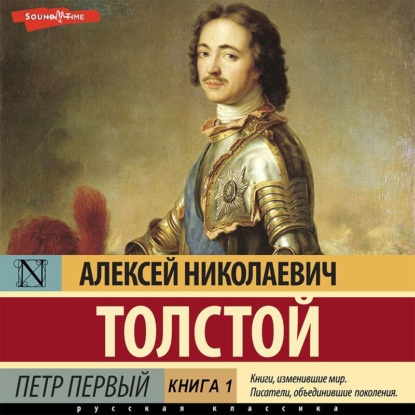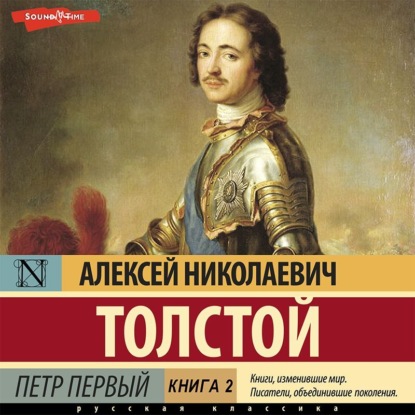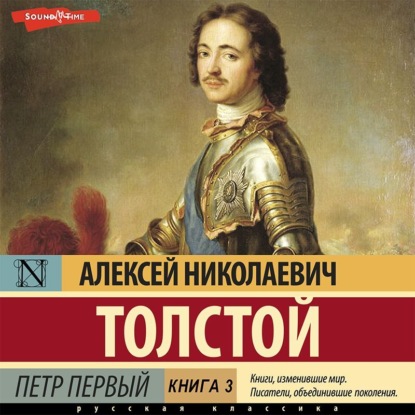Полная версия
Княжич. Соправитель. Великий князь Московский
– Бугай, настоящий бугай, – дивовались нукеры из стражи, теснясь к дверям крестовой.
– Да и у бугая горла на такой рев не станет, – говорил десятник, причмокивая от удовольствия. – Ишь, ишь, как ревет! Он и самого голосистого азанчу заглушит.
Василий Васильевич с умилением слушал своего любимца, которого за голос хотел давно уж у владыки в Москву просить, да за недосугами и бранями не успел. Стоя на коленях, усердно молился он о своем спасении, а когда пошел приложиться к кресту, услышал шум в сенцах и говор татар.
Шубин последним принял благословение отца Иоиля и, быстро выйдя в сенцы, тотчас же вернулся. Кланяясь низко, пригласил он князей к трапезе и, обратясь к великому князю, тихо добавил скороговоркой:
– Царевич Касим дошел к нам. Тобя, государь, хочет… В покое моем у стола, увидишь, поставцы стоят – возьми там, не обидь, кубок фряжский с каменьями. Дай его от собя царевичу Касиму.
– Спаси Бог тобя на добром деле, – промолвил великий князь, – послугу твою не забуду.
– Не гости хозяину, а хозяин гостям челом бьет, – поклонившись, сказал Шубин и повел всех в трапезную.
В трапезной царевич Касим сидел за столом на скамье, а у ног его на блеклом персидском ковре сидел Ачисан. При входе великого князя Ачисан быстро вскочил на ноги. Царевич Касим, еще молодой человек со светлыми подстриженными усами и маленькой бородкой, тоже поднялся со скамьи и поклонился Василию Васильевичу.
– Ассалям галяйкюм,[32] – проговорил он почтительно.
– Вагаляйкюм ассалям,[33] – ответил великий князь и пригласил царевича к столу хлеба-соли откушать.
Отец Иоиль, благословив князей и Сергея Петровича, удалился вместе с отцом Ферапонтом, а сотник Ачисан встал позади царевича – он оставался при трапезе толмачом. Сам хозяин тоже не сел за стол, а вместе с дворецким своим услуживал князьям и царевичу. Когда выпили из кубков заздравных заморского доброго вина за здоровье царя казанского и великого князя московского, за царевичей, за князя Михаила, царевич Касим сказал, улыбаясь:
– В конце твоей, княже, молитвы, – переводил его слова Ачисан, – услышал я здесь такой великий и грозный голос, какого никогда я не слыхал.
– Хочу яз его, – смеясь, ответил Василий Васильевич, – если Бог даст, в Москву к собе взять. Многих из дьяконов слушал, поскольку к пенью церковному задор великий имею, а такого голоса, как у отца Ферапонта, даже и яз не слыхивал…
Великий князь за столом развеселился, царевич Касим ему нравился, а кроме того, мерещилось ему, что Касим хочет сказать многое, да Ачисан мешает. Раненый и в полон взятый, Василий Васильевич шутил и смеялся, как дома у себя на пиру. Всегда такой был он открытый: и в гневе, и в радости, и в печали. Любили его за это.
– Люб ты мне, княже, – сказал царевич, – радостно с тобой хлеб-соль делить…
Василий Васильевич ласково улыбнулся и, прежде чем Ачисан успел перевести его слова, неожиданно заговорил по-татарски, как настоящий татарин:
– Люб и ты мне, царевич! Ты видишь меня в несчастье, а в счастье я буду еще веселей и гостеприимней. Жизнь наша изменчива. Бугэн миндэ, иртэгэ синдэ.[34] Судьба каждого в книге Фальнаме,[35] да не каждый толкователь гаданий может угадать судьбу.
Касим и Ачисан переглянулись с изумлением. Великий же князь, видя это, усмехнулся и продолжал по-татарски:
– Я же и не люблю гадать, ибо сказано еще: «Мы привязали к шее каждого человека птицу…»[36]
– Ты говоришь так хорошо и красиво, – воскликнул царевич Касим, – словно долгие годы сидел у ног улемов![37]
– Памятлив я очень, – смеясь, сказал Василий Васильевич, – и помню все, что слышу и вижу… – Встав из-за стола и подойдя к поставцу, он достал оттуда кубок итальянской работы с каменьями и подал его, поклонившись, царевичу. – Бью челом тебе, а будешь гостем у меня на Москве – встречу, как друга…
Царевич поблагодарил, потом, улыбаясь, обратился к великому князю:
– Брат Мангутек будет рад поговорить с тобой без толмачей. Он любит говорить быстро, а хуже нет, когда о твоих мыслях говорит чужой рот. Мы с тобой сей же час поедем к брату. Ачисан опередит нас, скажет хану Мангутеку, что мы придем следом.
Ачисан молча поклонился и вышел. Царевич Касим проводил его взглядом и, выждав некоторое время, сказал тихо Василию Васильевичу:
– Знаю я, что тебе ведомо о спорах брата с отцом. Любя тебя, скажу: берегись ты и Улу-Махмета и Мангутека. Мы с Якубом стоим в стороне. Нам обоим лучше уйти от них, и мы хотим твоей дружбы и помощи и сами поможем тебе…
Царевич быстро выхватил кинжал из-за пояса своего турского кафтана и взял его одной рукой за конец клинка, а другой – за конец рукоятки.
– Клянусь на том Аллахом! – воскликнул он и приложил ко лбу клинок кинжала и потом поцеловал его. – Только смерть моя и твоя воля могут нарушить эту клятву!.. – Спрятав кинжал, он встал из-за стола и добавил: – Нас не должен долго ждать хан Мангутек. Я проведу тебя, князь, в братнин шатер, что стоит в поле среди шатров его тысячи.
У ханского шатра царевича Касима и Василия Васильевича встретил Ачисан. Откинув белый дверной войлок, расшитый цветными узорами – зверями и птицами, – ханский сотник пригласил войти великого князя московского. Следом за ним вошел и царевич Касим. Молодой хан встретил их, сидя на пушистом ковре среди шелковых подушек. Князь и царевич низко поклонились ему, и Василий Васильевич сказал:
– Ассалям галяйкюм, хазрет Мангутек, брат мой…
– Вагаляйкюм ассалям, – милостиво ответил Мангутек и пригласил вошедших сесть.
Василий Васильевич последовал примеру Касима и сел слева от входа на кошму перед ковром хана. Несколько мгновений длилось молчание, и великий князь внимательно рассматривал острое хищное лицо Мангутека, мало схожее с лицом Касима. Молодой хан щурил злые рысьи глаза и ласково улыбался.
– Спасибо, князь, – сказал он, наконец, – за подарки, особенно за перстень с этим красивым кровавым яхонтом. Думаю, камень этот из Индии.
– Говорят, – ответил Василий Васильевич, – что яхонт этот, горячий и влажный, как звезда Муштари,[38] приносит счастье и все благое…
– Слушаю тебя, – перебил его Мангутек, – и дивуюсь, где ты так научился хорошо говорить по-татарски!
– Отец мой, Василий Димитрич, сын Димитрия Донского, хорошо разумел по-татарски. Когда же весной шесть тысяч восемьсот девяносто первого[39] года поехал он по воле отца заложником в Золотую Орду к хану Тохтамышу, то пробыл там два года… Не всякий татарин так умел говорить, как отец мой. У него и я научился в детстве еще. После же смерти отца я тоже был в Золотой Орде, где от отца твоего, царя Улу-Махмета, получил тогда ярлык на великое княжение…
– Отец зол на тебя, – опять перебил Мангутек великого князя, – за то, что ты пошел войной на него, а он ведь помог тебе против дяди Юрья Димитрича! Теперь же хочет он помочь сыну его, Димитрию Шемяке.
– Его воля! – воскликнул Василий Васильевич. – Москва все равно не примет Шемяку и прогонит его, как и отца его Юрья Димитрича. Если царь хочет выгоды и богатства, пусть мир и дружбу со мной ведет – Москва за меня и все города княжества Московского. Москва богаче Золотой Орды, да и сильней, а Москва да Казань и того больше. Никакая орда Казань не тронет, если дружба и союз будет у нее с Москвой!..
По знаку Мангутека слуги поставили на ковер перед ханом серебряные блюда с пловом, подносы с лепешками, малые блюдца с халвой и с желтыми кусками ноздристого сдобного сладкого кулича, пахнущего шафраном. Налили потом кумыса в золоченые чаши и крепкого меда в золотые чарки.
Хан гостеприимно пригласил сесть около себя на ковер Василия Васильевича и своего брата Касима. Они выпили заздравные кубки за царя и царевичей и за великого князя. Потом молча поели они плова и всяких сладостей.
– Повар мой, – весело проговорил Мангутек, заедая пышным куличом сладкий изюм и урюк, – долго жил в Хорезме, там всему научился…
– Плов хорош, – рыгая по обычаю татарскому, хвалил Василий Васильевич, – а с халвой и куличом язык проглотишь!..
Омыв руки после еды, царевич Касим попросил разрешенья уйти. Василий Васильевич остался с глазу на глаз с Мангутеком. Снова прищурился по-рысьи молодой хан и ласково заулыбался.
– Хазрет Васил, – начал он мягко и вкрадчиво, будто шел по-кошачьи, – от Ачисана все мне известно. Мне кажется – ты понял меня.
– Понял, хазрет Мангутек, да будет бехмет в делах твоих. Что мне надобно, ты знаешь тоже. Мать говорила об окупе, а я скажу совсем точно: сколько дам царю, столько и тебе. Если ж случится неудача у тебя, то путь в Москву тебе всегда открыт, как брату! Будут тебе и братьям твоим вотчины и кормленья.
– «Кто уповает на Аллаха, тому он – довольство. Аллах свершит свое дело!..»[40] Неудач не будет у нас…
Мангутек хотел еще что-то добавить, но сдержался и замолчал. Василий Васильевич допил свою чарку и поклонился хану. Потом достал из-за пазухи золотой обруч, осыпанный каменьями самоцветными, и, подавая хану, сказал:
– Прими в знак дружбы и верности этот подарок для своей ханши.
Хан милостиво принял подарок и воскликнул, прикоснувшись рукой к своей бороде:
– Аллах свидетель, что я обещаю тебе дружбу и сделаю все, чтобы отец принял твой окуп!
Отпуская великого князя с Ачисаном, Мангутек сказал ему, что завтра с утра выступают татары и пойдут к Нижнему Новгороду старому… Когда Василий Васильевич возвращался в сопровождении Ачисана и его нукеров в хоромы купца Шубина, в посаде встретил его маленький попик.
– Отец Иоиль! – крикнул ему великий князь. – Благослови меня в путь! Завтра уходят татары.
Священник поспешил к нему и, благословляя, сказал:
– Когда милостию Божией вернешься в свой стольный град, вспомни слова мои, что самый верный тобе доброхот и покровитель – отец Иона, владыка рязанский…
Глава 4
В Галиче Мерьском[41]
У себя в хоромах, в передней своей, сидел князь Димитрий Юрьевич запросто с князем можайским Иваном Андреевичем и дьяком своим Федором Дубенским. Пили водки разные и меды – любит Шемяка гульнуть, попить-поесть и гостей угостить.
– Хоть не богат, – смеется Димитрий Юрьевич, – а гостям рад! У меня кубок на кубок, а ковш вверх дном! Гуляй душа нараспашку.
Выпил князь. Весел как будто, но красивые глаза его злы и не ласковы, бегают, ищут что-то и никому не верят, и сам он как-то весь суетлив и беспокоен. Росту хоть малого, но ловок и поворотлив, только вот черен весь: и кудрями, и бородой курчавой, и даже лицом темен. На галку похож, как бы и не русский.
Князь Иван Андреевич весело чокнулся с хозяином и промолвил:
– Не дорога гостьба, дорога дружба! Будь здрав, Митрий Юрьич.
Он выпил чарку, заел хлебом с тертым хреном, хитро подмигнул дьяку Федору и с ним тоже чокнулся. Грузный и рыхлый, как брат его Михаил, что с великим князем в полон к Улу-Махмету попал, Иван Андреевич не был, как тот, прямодушен, а всегда и всюду лукавил.
– Вот на Москве, – добавил он, – не столь нас потчуют, сколь неволят…
– Тамо, господине, – ухмыляясь в седеющую бороду, живо откликнулся дьяк Федор Александрович, – тамо и не рада курочка на пир, да за хохолок тащат…
– Ха-ха! – резко и зло рассмеялся Шемяка. – Там оглянуться не успеешь, как ощиплют и съедят! Вот и князь Василий меня все потчевал тем, чего яз не ем!..
– У Москвы, – продолжал дьяк, усмехаясь, – брюхо в семь овчин сшито. Гостей угощат да и самих с угощеньем жрет. Поди ж ты, сколь собе в брюхо князья московские навалили. Данил Лександрыч Переяслав заглонул, как щука. Юрий Данилыч захватил Можайск да Коломну; Калита – Белозерск, Углич да Галич наш; Донской – Верею, Калугу, Димитров да Володимерь; Василь Митрич – еще того боле: Муром, Мещеру, Новгород Нижний, Городец, Тарусу, Боровск, Вологду, а Василь Василич и своих всех удельных заглонуть хочет…
– Да на мне подавится! – стукнул кулаком по столу Шемяка и налил всем водки по большой чарке. – Пейте, да дело разумейте. Если мы, удельны, не задавим Василья, то он нас, как волк ягнят, перережет, с костями и кишками сожрет!
– Не при на рожон, государь мой, – начал вкрадчиво дьяк, – лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то…
У Шемяки ноздри раздулись, побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка:
– Не учи сороку вприсядку плясать!
Но Федор Александрович не испугался, знал князя своего, недаром любимцем был.
– Ин по-твоему быть, государь, а о пляске ты ко времю напомнил. Поедем ко мне, вдовцу веселому, хлеба-соли покушать, лебедя порушить… – Он нагнулся к Шемяке и громким шепотом добавил: – А там поплясать да белых лебедушек поимать. Новая плясовая есть! Вдосталь попляшем. Да и гость наш, хошь женатой, а на чужой стороне – все равно что вдовой, а девок да молодиц всем хватит…
Он обвел молодых князей смеющимися, такими разгульными глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку:
– За лебедушку белую, за любу твою Акулинушку выпьем!
Шемяка улыбнулся, чаще задышал и вялый Иван Андреевич – знал, по греху, и он про хоромы Дубенского, что тот себе построил, а от других про это таили. От княгини своей Акулинушку прячет там Шемяка. Совестно князю – сыну Ивану уже восьмой год пошел.
– Змей-искуситель, – шутит, развеселившись, Димитрий Юрьевич, – во ад тропку мне пролагаешь…
– И-и, государь мой, – усмехнулся Федор Александрович, – обоим вам по двадцать пять, а мне без малое одному столь, сколько вам вместе, а и то не тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще знай!..
В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло – солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям розоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у красного крыльца встречали и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий убор. Не для гостей она строилась, а только для князя да хозяина, да для люб их. Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили. Как князья ни отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолил. Выпили снова и журавля жареного с мочеными яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька, да Акулинушка, да еще Настасьюшка, что прошлый раз приглянулась тучному Ивану Андреевичу. Все три молодицы-хозяйки сами и стол накрывали и сами гостям за столом служили.
Димитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали – заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил:
– Спой-ка, любушка, песню, а какую – сама выбери.
Акулинушка вскинула на него свои русалочьи прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила, и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжкой истомой:
Эко сердце, эко бедно… бедное мое,Ах, да полно, сердце, во мне ныти, изнывать!..Словно замерло все в хоромах, и, гуще багровея, заря огнем в слюдяных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизях уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная да горючая, жгучая. Опустили все головы, а у Грушеньки да Настасьюшки слезы в глазах… Вдруг смолкла, не допев, Акулинушка. Взглянула в посеревшее лицо Димитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все, еще слова вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная знойная ночь, ожгла всех хоровой песней:
Уж вы, но… уж вы, ноче-ни-ки, вы но-чи-те!– Ух! – будто враз опьянев, воскликнул Федор Александрович, и все хором подхватили горячую, хмельную песню.
Затопали под столом ногами, зашевелили плечами, и первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою Грушеньку.
Серой утицей поплыла к нему Грушенька, помахивая белым шитым платочком. Не утерпел и князь Иван Андреевич, пошел на манку Настасьюшки, словно голубь за голубкою, зачастил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую грудь Акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит, да звенит и гудит в груди сладостный голос, пьянит и баюкает, тоску его усыпляя.
Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола.
– Гости дорогие, – громко приглашал он, – напоследочек в «колобок» поиграем с пенями!..[42]
Поставили пять стольцев среди горницы. Пятеро сели, а шестая, Акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно:
Клубок – тоне, тоне,Нитка тянется…Первым, встав, взял ее за руку Шемяка, потом Грушенька, за ней – Федор Александрович, за ним Настасьюшка и князь Иван Андреевич.
Образовался хоровод и быстро закружился, а Акулинушка запела:
Клубок – тоне, тоне,Нитка – доле, доле!..Хоровод закружился еще быстрей и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась…
Снова запела Акулинушка:
Я за ниточку взялась,Моя нитка порвалась!..При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хоровода, который мгновенно рассыпался. Все сели на стольцы, только Настасьюшка не поспела и осталась среди горницы.
– Пеню, пеню! – закричала Грушенька.
– Пусть поцелует кого захочет! – крикнул, смеясь, дьяк.
– Меня поцелуй, Настасьюшка, – при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич.
Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось.
– Медведем ему быть! – весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью.
– Ладно, – проревел дьяк, становясь на четвереньки.
Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно подогнув колени. Схватив ее передними лапами, поднял, как перышко, и понес к себе в опочивальню. В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь:
– Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят… – Потом, подмигнув, добавил: – А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то дороженьки.
Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Димитрия Юрьевича за шею, впилась устами в уста, не отрывая русалочьих глаз, задохнулась совсем. Сжал ее в объятьях Шемяка, сам целуя ей щеки, шею и плечи и снова сливая уста с устами.
– Люба ты, люба моя, – шептал он страстно, – свет мой Акулинушка…
Вдруг она отстранилась:
– А вот опостылю тобе, как княгиня твоя…
Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди. Акулинушка вздохнула и пропела ему вполголоса:
Буде лучше меня найдешь – позабудешь,Буде хуже меня найдешь – воспомянешь…На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Димитрия Юрьевича, и всполошились все в хоромах, по всем углам суета началась. Сразу всем стало известно, что в Галич приехал из ханского яртаула[43] Бегич, посол Улу-Махмета. Князьям подали коней. Торопливо позавтракав, чем Бог послал, Димитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским к Галичу, стольному граду Мерьской земли.
– Ты, господине, покоен будь, – говорил Шемяке дьяк, идя на рысях бок о бок с княжим конем. – Боярин Никита знает, как посла приветить, на Москве ведь жил, а посол-то нам, словно Божий дар, с самого неба упал…
Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул:
– Теперь Василей-то треснет, как гнида под ногтем!
Когда князья и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хором, застали там они уже стол да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали – боярин Никита Константинович угощал посла Улу-Махметова с почетом великим и лаской. Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей и везде был как дома. Знал изрядно по-русски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать, и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров.
Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почтительно встали.
– Ассалям галяйкюм, – сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь, – с сеунчем[44] к тобе я, княже, от царя Улу-Махмета, да живет он сто лет…
– Вагаляйкюм ассалям, – радостно ответил Шемяка, – победа Улу-Махмета – моя победа, да здравствует царь многая лета…
Своеручно налил Димитрий Юрьевич водки боярской в кубки испить за царя, потом за царевичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за Шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, подымая свой кубок:
– Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу-Махмет жалует тобя великим княжением, а ворога твоего князя Василья до смерти в полоне держать будет. С этим жалованием послал меня царь из Новагорода из Нижнего, а тобе быть во всей его воле и на том шерть[45] свою дать царю…
– Напишу яз царю шертную грамоту крепкую, – поспешно воскликнул Шемяка, – пусть токмо Василья задавит!
– Царь казанский, да живет он сто лет, – продолжал Бегич, – послал меня к тобе августа двадцать пятого дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном.
Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей. Цену заморскому вину отлично знал и Бегич и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду. Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры-столованья. Бегич знал достатки удельных князей и ответил грубоватой шутливой пословицей:
– Айда байрам бит ача, кюн байрам кыт ача.[46]
Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, но стерпел и ласково ответил:
– Такой русский обычай. Недаром по старине говорится о гостях: «Напой, накорми, а после и вестей поспроси!..» Попируем, чем Бог послал, а потом побеседуем.
– Ну ничего, – снисходительно заметил татарин, – сядешь на московский стол – поправишься на великокняжьих прибытках.
С каждым днем больней и несносней были Шемяке обиды от Улу-Махметова посла, но злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все своеволья татарина.
– Покланяемся агарянам поганым, – говорил он наедине князю Ивану Андреевичу, – да зато Василья сгонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можно! Стану князем великим, укреплю всех удельных. Бегич верно о прибытках молвил. При московском богатстве и татары нам ниже поклонятся.
– Дай-то Бог! – проговорил Иван Андреевич и, усмехнувшись, добавил: – Дай Бог нашему теляти да волка поймати!..
Шемяка вспыхнул, сверкнул гневно глазами, но взял себя в руки и громко засмеялся.
– Василий-то волк?! – воскликнул он презрительно. – Коли он волк, то ты самого льва страшней.
– Не о Василье речь, – досадливо отмахнулся князь можайский, – о том, что Москва за него. Василий-то и так в яме. Москва страшна, а не Василий.
Вошли, кланяясь, Никита Добрынский и Федор Дубенский.
– Государь, – сказал Никита, – составили мы с Федором Лександрычем грамоту к царю. Как прикажешь царя называть и собя? Вторую неделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок, собака. Хоть скуп он и жаден, а деньгами и подарками не купишь. – Никита Константинович развернул бумагу и продолжал: – Вот так он требует писать-то: «Казанскому великому и вольному царю Улу-Махмету. Твой посаженник и присяженник, князь Галицкой, много тя молит…»
Шемяка прервал чтенье боярина крепкой площадной бранью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переярившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полный ковш крепкого меда. Постоял немного и тихо промолвил:
– Ладно! Пиши так. Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. Как ты мыслишь, Иван Андреич?
Снова замолчал, тяжело переводя дух, а князь можайский усмехнулся.
– По мне, все едино, – сказал он, – лишь бы нам и детям нашим добро было.
– Да ведь татары-то, – закричал Шемяка, – остригут нас, словно овец!
Ведь и все удельные-то захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь и Рязань!..
Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищурив лукаво глаза:
– А ты мыслишь, все за тобя зря ума будут стараться, токмо для-ради красных слов.