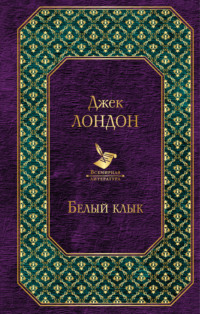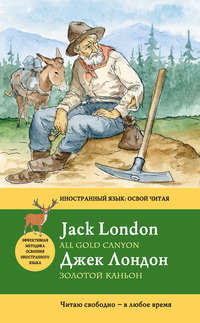Полная версия
Любовь к жизни (сборник)

Джек Лондон
Любовь к жизни
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Сын волка
Белое безмолвие
– Дольше пары дней Кармен не протянет. – Мейсон выплюнул кусок льда, с сожалением взглянул на несчастное животное, снова засунул собачью лапу в рот и продолжил обгрызать намерзший между когтями лед. – В жизни не встречал надежной ездовой собаки с заумной кличкой. – Он завершил операцию и оттолкнул жалобно скулившую Кармен. – Ни одна не выдерживает здешней жизни: все быстро сдают, слабеют и дохнут. Видел когда-нибудь, чтобы подвел пес с надежным именем типа Касьяр, Сиваш или Хаски? Нет? И не увидишь! Вот взгляни хотя бы на Шукума. Он же…
Мейсон не договорил. Поджарый свирепый зверь вскочил и щелкнул зубами возле шеи хозяина.
– Ну что еще надумал?
От крепкого удара рукояткой хлыста по уху пес задрожал и растянулся на снегу, с клыков закапала желтая слюна.
– Видишь? Я же говорил, что Шукум не слабак. Готов поспорить, не пройдет и недели, как он сожрет Кармен.
– Вероятно. Боюсь только, что твоему любимцу тоже несдобровать, – возразил Мэйлмют Кид, переворачивая над огнем замерзший хлеб. – Мы сами съедим Шукума еще до конца пути. Что скажешь, Рут?
Индианка опустила льдинку в кофе, чтобы осадить гущу, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, потом на собак, но не сочла нужным ответить. К чему пустые слова, когда и так все ясно? Впереди две сотни миль мучительного пути, а запасов едва хватит на шесть дней, да и то лишь на людей. Собак кормить нечем. Выхода нет.
Двое мужчин и женщина сели поближе к костру и принялись за скудную трапезу. Собаки лежали в упряжке, поскольку это был короткий дневной отдых, и провожали каждый кусок голодными взглядами.
– Сегодня последний ленч, – вздохнул Мэйлмют Кид. – А за собаками придется постоянно следить: того и гляди набросятся и загрызут.
– Подумать только: когда-то я возглавлял методистскую общину в Эпсуорте, да еще и в воскресной школе преподавал. – Вспомнив невероятные подробности собственной биографии, Мейсон вдруг помрачнел и погрузился в созерцание пара, поднимавшегося от оттаявших у костра мокасин. Так он неподвижно просидел до тех пор, пока Рут не вывела его из задумчивости, налив кофе.
– Слава богу, хотя бы чая у нас много! Я-то видел в Теннеси, как он растет. Эх, чего только не отдал бы за горячий початок вареной кукурузы! Не горюй, Рут, недолго еще тебе осталось голодать и шлепать по снегу бог знает в чем.
Глаза индианки наполнились великой любовью к доброму повелителю – первому белому человеку, которого довелось встретить; первому мужчине, обращавшемуся с женщиной лучше, чем со скотиной или вьючным животным.
– Да, Рут, – продолжил муж на том живописном, полном иносказаний языке, который позволял им понимать друг друга. – Потерпи немного. Скоро выберемся отсюда, сядем в каноэ белого человека и поплывем по большой соленой воде. Да, плохая, сердитая вода. Постоянно качаются и пляшут белые горы. Так далеко, так долго! Плывешь десять снов, двадцать снов, сорок снов, – принялся он загибать пальцы, словно хотел показать дни, – а вода, злая вода никак не кончается. Но потом все-таки приплывем в большую-большую деревню. Там людей видимо-невидимо… почти как комаров летом. И вигвамы огромные – высотой в десять, а то и в двадцать сосен! Ну как же тебе объяснить?
Мейсон растерянно замолчал, умоляюще взглянул на товарища и прилежно изобразил, как ставит одну на другую двадцать сосен.
Мэйлмют Кид цинично, но жизнерадостно улыбнулся, зато глаза Рут засветились доверчивым восхищением: почти не понимая слов, она чувствовала, что муж шутит, и снисхождение наполняло бедное сердце радостью.
– А затем войдем в… в большой ящик и – ррраз! – взлетим высоко-высоко. – Для наглядности Мейсон подкинул опустевшую кружку, ловко поймал и закричал: – Два! И снова спустимся на землю. О, великие шаманы! Ты поедешь в форт Юкон, а я – в Арктик-сити. Там есть такая струна длиной в двадцать пять снов. И вот я схвачусь за один конец и скажу: «Привет, Рут! Как дела?» А ты спросишь: «Это мой добрый муж?» – «Да», – отвечу я. «Не могу испечь хороший хлеб, сода закончилась», – пожалуешься ты. Тогда я скажу: «Поищи в кладовке, под мукой. До свидания». Ты найдешь много соды и испечешь вкусный хлеб. И так все время: ты в форт Юкон, я в Арктик-сити. Ай да великие шаманы!
Рут так наивно, простодушно улыбнулась, что спутники расхохотались. Рассказ о чудесах Большой земли оборвала собачья драка, а к тому времени, как мужчины разняли рычащих псов, индианка уже сложила вещи в сани и собралась в путь.
– Ну же, пошли! Смелее, вперед! Не ленитесь, тяните! – Мейсон умело пустил в ход хлыст, и собаки натужно захрипели, пытаясь сдвинуть груз с места.
Стремясь облегчить их участь, он подтолкнул сани и зашагал рядом. Рут шла следом, возле второй упряжки. Мэйлмют Кид помог ей тронуться с места и только после этого сам отправился в путь. Могучий силач, способный одним ударом свалить быка, он не мог бить несчастных животных: жалел их, как жалеет мало кто из погонщиков, и едва не плакал от сострадания к нелегкой собачьей доле.
– Поднатужьтесь, милые! Потерпите, бедные! – взмолился он после нескольких напрасных попыток. Но вот наконец очередное усилие увенчалось успехом: завывая от боли, измученная свора похромала вслед за двумя другими.
Разговоры прекратились. Тяжкий труд дальней дороги не допускает роскоши простой дружеской беседы.
Нет на свете участи суровее испытания северным простором. Счастлив тот, кому повезет заплатить за дневной переход по разбитой колее лишь угрюмым молчанием. И нет на свете путешествия мучительнее бесконечного преодоления снежной дороги. При каждом шаге широкие снегоступы погружаются все глубже, пока ноги не проваливаются по колено. Тогда приходится медленно, осторожно – ошибка даже на долю дюйма грозит катастрофой – вытаскивать неуклюжие громоздкие лопасти на поверхность и счищать лишний груз. Потом снова вперед и вниз, чтобы поднять на пол-ярда другую ногу. Тот, кто впервые сражается со снегом, получит право назвать себя победителем, если не растянется во весь рост на предательской дороге, а сумеет устоять, хотя уже через сотню ярдов выбьется из сил. А если к тому же сможет удержаться на безопасном расстоянии от собачьей упряжки, не попав под лапы животных и полозья саней, то вечером забьется в спальный мешок с чистой совестью и с гордостью, не доступной пониманию обитателей Большой земли. Герой, сумевший не сломаться и с честью выдержать путь длиной в двадцать снов, станет человеком, достойным зависти богов.
День тянулся медленно. Объятые благоговейным трепетом перед белым безмолвием, путники молча, упрямо продвигались вперед. Природа обладает множеством доходчивых способов убедить человека в его неизбывном ничтожестве. Для этого есть бесконечный, равнодушный ритм прилива и отлива, безумная ярость бури, жестокие удары землетрясения, пугающая канонада небесной артиллерии. И все же не существует на земле ничего более ошеломительного и оглушительного, чем непреодолимая неподвижность белого безмолвия. Все шорохи замирают, небеса проясняются и застывают в безмятежно сияющем покое вечности. Малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается даже слабого звука собственного голоса. Одинокая крупинка жизни на призрачных просторах пустынного мертвого мира, он трепещет от собственной дерзости, ощущая себя жалкой мошкой перед лицом Вселенной. Непрошеные причудливые мысли мелькают в голове, великая тайна мироздания ищет и не находит выражения.
Страх смерти, ужас перед Создателем, благоговение перед непостижимой вечностью мира охватывают усталого путника, сменяясь надеждой на воскресение и жизнь, жаждой бессмертия, тщетным стремлением заточенной в темнице сущности к свободе и свету. Только здесь и сейчас человек остается наедине с Господом.
Миновал еще один день. Река удлинила маршрут прихотливым широким изгибом. Чтобы сократить путь, Мейсон направил свою упряжку прямо к перешейку. Однако собакам не хватило сил забраться на крутой берег. Хотя Рут и Мэйлмют Кид дружно толкали сани, полозья проскальзывали и срывались. Настало время сделать последний, решающий рывок. Истощенные, ослабевшие от голода собаки собрали остатки сил и обреченно полезли вверх по склону. Медленно-медленно сани вползли на берег, однако вожак дернул свору вправо и задел снегоступы хозяина. Результат оказался трагическим.
Мейсон не удержался на ногах; одна из собак упала и запутала остальных; сани опрокинулись и рухнули обратно – туда, откуда только что с огромным трудом поднялись. Резко, яростно свистнул по собачьим спинам хлыст. Особенно досталось той, которая упала первой.
– Не надо, Мейсон, не бей, – умоляюще проговорил Мэйлмют Кид. – Бедняга и так едва стоит. Подожди, давай лучше подпряжем мою свору.
Мейсон нарочно задержал хлыст, чтобы дождаться конца просьбы, и с отчаянной яростью хлестнул по спине провинившуюся собаку.
Кармен – а это была именно Кармен – задергалась на снегу, жалобно завизжала и перекатилась на бок.
Настала минута горестного испытания: погибающая собака, два разгневанных товарища.
Рут в тревоге наблюдала за мужчинами. Мэйлмют Кид сумел сдержаться, хотя в глазах застыло горькое осуждение. Молча склонился он над обреченной Кармен и обрезал постромки. Без единого слова путники объединили две своры в одну и общими усилиями преодолели препятствие. Сани двинулись дальше, умирающая собака кое-как заковыляла следом. До тех пор, пока животное способно двигаться, его не пристреливают: дают последний шанс на тот случай, если удастся убить лося и накормить всех – и людей, и свору.
Уже раскаиваясь в безумной жестокости, но из упрямства отказываясь признать собственную слабость и извиниться, Мейсон тяжело брел во главе небольшого каравана и не подозревал, что идет навстречу смерти. Путь пролегал по заросшей хвойным лесом низине. Примерно в полусотне футов от колеи возвышалась величественная сосна. Веками стояло дерево на этом месте, и судьба готовила ему конец – один на двоих с человеком.
Мейсон остановился и склонился, чтобы подтянуть ремни снегоступов. Собаки улеглись на снег, и сани замерли. Странная тишина объяла мир, замороженный лес уснул в неподвижности. Холод и молчание сковали живое сердце и дрожащие губы природы. Но вдруг в воздухе пролетел тихий вздох; путники не столько его услышали, сколько ощутили в ледяной пустоте предвестье движения. А через мгновение утомленная грузом столетий и снегов огромная сосна сыграла главную роль в трагедии непобедимой смерти. Мейсон услышал зловещий треск и попытался выпрямиться, но не успел: удар пришелся на плечо.
Нежданная опасность, стремительная жестокая гибель – как часто сталкивался со страшными случайностями Мэйлмют Кид! Сосновые иголки еще дрожали, когда он отдал короткую команду и начал действовать. Рут не упала в обморок и не закричала подобно белым сестрам. Молча подчиняясь приказу и прислушиваясь к стонам мужа, она что было сил налегла на конец примитивного рычага, стараясь весом худенького тела облегчить тяжесть рухнувшего дерева. Тем временем Мэйлмют Кид набросился на сосну с топором в руках. Сталь звенела, вгрызаясь в замороженное дерево, а каждый мощный удар сопровождался громким, натужным дыханием дровосека.
Наконец он освободил и положил на снег то, что осталось от сильного, здорового, молодого человека. Однако еще более угнетающе подействовала застывшая на лице индианки немая скорбь – странное сочетание надежды и безысходности. Говорили мало, люди Севера быстро понимают бесполезность слов и неоценимую важность поступков. При температуре в шестьдесят пять градусов мороза человек не способен долго лежать в снегу и при этом оставаться живым. Поэтому Мэйлмют Кид поспешно соорудил из елового лапника подобие топчана и уложил закутанного в шкуры и одеяла товарища, а рядом развел костер, топливом для которого послужило ставшее причиной трагедии дерево. Сзади и сверху натянул примитивное подобие тента: кусок парусины надежно задерживал и отражал тепло. Этот прием отлично знако́м всем, кто изучал физику не за школьной партой, а на практике.
Точно так же все, кто когда-либо встречался со смертью, слышат и понимают ее зов. Даже беглый, поверхностный осмотр не оставил сомнений: Мейсон искалечен непоправимо и безнадежно. Правая рука, правая нога и позвоночник сломаны; нижняя половина тела парализована; велика вероятность серьезных внутренних повреждений. Лишь редкие, едва слышные стоны доказывали, что несчастный еще жив.
Никакой надежды на спасение, ни малейшей возможности помочь. Безжалостная ночь медленно ползла, обрекая Рут на свойственное ее народу безысходное стоическое терпение и высекая на бронзовом лице Мэйлмюта Кида новые глубокие морщины.
Пожалуй, меньше всех страдал сам Мейсон. Он наконец-то вернулся в туманные горы на востоке штата Теннеси – туда, где прошло детство – и сейчас вновь переживал счастливые дни. Жалко и трогательно звучал давно забытый тягучий южный говор, когда в бреду он рассказывал о темных, богатых рыбой омутах, об охоте на енотов, о набегах за арбузами на чужие огороды. Рут слушала, почти ничего не понимая, однако Мэйлмют Кид все понимал и чувствовал, как способен чувствовать только тот, кто долгие годы провел вдали от населенного людьми мира.
Утром к Мейсону вернулось сознание, и Мэйлмют Кид склонился над товарищем, чтобы расслышать его шепот.
– Помнишь, как четыре года назад мы встретили Рут на реке Танана? Тогда я не сразу сумел оценить ее. Просто симпатичная девчонка, вот и понравилась. Но потом понял, что это не все. Она стала мне хорошей женой, всегда рядом в трудную минуту. Когда доходит до серьезного дела, ей нет равных. Помнишь, как стреляла на порогах в Мусхорне, чтобы снять нас с тобой со скалы? Пули молотили по воде как град. А голод в Никлукуето? Тогда Рут примчалась по замерзшей реке, чтобы предупредить об опасности.
Да, хорошая жена. Лучше той, прежней. Не знал, что я уже был женат – там, дома? Никогда не рассказывал? Попробовал однажды, еще в Штатах. Потому и оказался здесь. Мы с ней вместе выросли. Уехал, чтобы она смогла подать на развод. Подала и получила то, что хотела.
А Рут совсем другая. Собирался закончить все дела и вернуться вместе с ней на Большую землю. Но теперь уже поздно. Не отправляй ее обратно в племя, Кид. Будет очень тяжело. Подумай сам! Почти четыре года питаться нашей пищей – бекон, фасоль, мука и сухофрукты – и вдруг вернуться к рыбе и оленьему мясу. После того как Рут узнала, что мы живем лучше, чем ее народ, не нужно ей возвращаться обратно. Позаботься о моей жене, Кид, прошу. Впрочем, ты всегда обходил женщин стороной и не рассказывал, почему сюда приехал. Пожалей ее и как можно скорее отправь в Штаты. Но устрой так, что если вдруг соскучится и захочет домой, то сразу сможет вернуться.
А ребенок… он еще больше нас сблизил, Кид. Надеюсь, что родится мальчик. Только подумай – моя плоть и кровь! Он не должен остаться здесь, на Севере. А если вдруг девочка… нет, не может быть. Продай мои меха: выручишь не менее пяти тысяч, – да еще столько же принесет компания. Объедини мои акции со своими, так будет надежнее. А ей выдели неотчуждаемую долю. Проследи, чтобы сын получил хорошее образование. А главное, не отпускай его сюда. Белому человеку тут не место.
Моя жизнь кончена. Осталось три-четыре ночи, не более. А вам надо идти дальше. Непременно! Помни: это моя жена и мой сын. О боже, только бы родился сын! Вам нельзя оставаться со мной. Умираю и приказываю продолжить путь.
– Дай нам еще три дня, – произнес Мэйлмют Кид. – Вдруг станет лучше? Может, что-нибудь изменится?
– Нет.
– Всего три дня.
– Вы должны идти.
– Два дня.
– Моя жена и мой ребенок, Кид. Не проси.
– Один день.
– Нет-нет! Приказываю…
– Последний, единственный день. Продержимся на запасах. Вдруг убью лося?
– Нет… впрочем… хорошо. Всего день, ни минутой дольше. Только не оставляй меня лицом к лицу со смертью, умоляю. Достаточно одного выстрела, пальцем на курок… и конец. Сам знаешь. Подумай, подумай! Моя плоть и кровь, а я так его и не увижу!
Позови сюда Рут. Хочу с ней попрощаться. Сказать, чтобы думала о ребенке и не дожидалась моего ухода. Иначе может отказаться продолжить путь. Прощай, старина, прощай.
Послушай! Там, на склоне, над рекой, есть отличное местечко. Намоешь изрядно, уж я-то точно знаю. И еще…
Мэйлмют Кид склонился ниже, чтобы не упустить последние ускользающие слова: победу умирающего товарища над собственной гордостью.
– Прости за… ты понимаешь… за Кармен.
Оставив Рут тихо плакать возле мужа, Мэйлмют Кид надел парку, прикрепил снегоступы, сунул под мышку ружье и зашагал в лес. Он вовсе не был новичком в бесконечных испытаниях северного края, но ни разу не оказывался в столь жестоких тисках судьбы. В теории уравнение было очевидным: три жизни против одной, обреченной на скорый конец, – и все же сомнения не отпускали. Пять лет скитаний плечом к плечу по замерзшим рекам и глубоким колеям, мертвого сна на коротких стоянках, изнуряющего труда на золотых приисках, лицом к лицу со смертью от холода и голода – пять лет постоянного преодоления связали их с Мейсоном надежными узами братства. Спаяли настолько крепко, что порой возникала смутная ревность к Рут за то, что стала третьей. И вот теперь придется собственной рукой оборвать не только связь, но и жизнь друга.
Мэйлмют Кид молил Бога послать лося – всего лишь одного лося! Но, похоже, звери покинули проклятую землю. К ночи изможденный человек вернулся к костру с пустыми руками и тяжелым сердцем. Лай собак и громкие крики Рут заставили ускорить шаг.
Страшная картина предстала перед глазами: вооружившись топором, индианка в одиночку сражалась со сворой взбесившихся псов. Обезумев от голода и усталости, те нарушили железное правило неприкосновенности хозяйского добра и набросились на съестные припасы. Перевернув ружье вперед прикладом, Мэйлмют Кид вступил в битву. Естественный отбор проявился с неприкрытой северной жестокостью. С угрюмой монотонностью ружье и топор вздымались и резко падали. Гибкие собачьи тела извивались, глаза бешено горели, с клыков падала слюна. Люди и звери насмерть сражались за превосходство. Наконец избитые собаки подползли к костру, чтобы зализать раны и выплакать звездам свою горькую участь.
Запас сушеного лосося пропал. На двести миль пути по холодной пустыне осталось всего пять фунтов муки. Рут вернулась к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал собаку, чья голова попала под удар топора, аккуратно разрезал тушу на куски и спрятал; лишь шкуру и потроха бросил недавним сообщникам.
Утро принесло новую беду. Животные накинулись друг на друга. Кармен, еще цеплявшаяся за остатки жизни, первой пала жертвой жестокой схватки. Хлыст слепо, без разбору гулял по спинам и головам; собаки корчились и визжали от боли, однако не разбегались до тех пор, пока не осталось ничего: ни костей, ни шкуры, ни шерсти.
Занимаясь печальным делом, Мэйлмют Кид прислушивался к бреду Мейсона. Несчастный снова вернулся в Теннеси и теперь жарко доказывал что-то друзьям юности.
Работал Кид умело и проворно. Рут наблюдала, как он мастерит тайник, похожий на те, которыми иногда пользуются охотники, чтобы спасти добычу от росомах и собак. Почти до земли пригнув верхушки двух небольших сосен, он связал их прочными ремнями из лосиной шкуры. Ударами хлыста заставив собак подчиниться, запряг три своры в двое саней. Туда же загрузил все, кроме согревавших Мейсона шкур и одеял. Потуже закутал товарища, перевязал веревками, а концы надежно прикрепил к верхушкам сосен. Одно движение острого ножа, и деревья распрямятся, подняв тело высоко в воздух.
Рут уже выслушала напутствия мужа, и теперь смиренно ждала конца. Бедняжка успела хорошо выучить урок покорности. Как и все женщины северного народа, с самого детства она склоняла голову перед властителями мира, не в силах представить, что можно перечить мужчинам. Мэйлмют Кид позволил на прощание поцеловать Мейсона и выплеснуть горе – даже такая малость противоречила обычаям родного племени, – а потом подвел к первым саням и помог закрепить снегоступы. Почти не видя ничего вокруг, слепо повинуясь привычке, Рут взяла шест и хлыст, чтобы направить собачью упряжку по льду замерзшей реки. Сам же Мэйлмют Кид вернулся к впавшему в забытье Мейсону и присел возле костра, молясь, чтобы товарищ умер своей смертью и освободил от страшной миссии.
Невесело коротать время в пустоте белого безмолвия, наедине с печальными мыслями. Молчание темноты милосердно: тишина окутывает плотным покровом и нашептывает слова утешения. Однако эфемерное белое безмолвие, прозрачное и холодное под ледяными стальными небесами, не ведает сострадания.
Миновал час, другой. Мейсон не умирал. В полдень солнце, едва приподнявшись над южным горизонтом, бросило на небосвод косые отсветы и сразу погасло. Мэйлмют Кид медленно встал и заставил себя подойти к товарищу, чтобы посмотреть, жив тот или умер. Белое безмолвие презрительно усмехнулось, великий страх охватил душу. Лес ответил коротким гулким эхом.
Через минуту Мейсон вознесся в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид пустил собак диким галопом и помчался по снежной пустыне.
Сын Волка
Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина, – во всяком случае, не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме, но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, то с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильнодействующими лекарствами. Но голод не отпускает – напротив, мучит все сильней; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм, и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его наконец осеняет.
Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимой запрягает своих собак – и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женой, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествиячечако[1] и славился только как место, где отлично ловится лосось.
В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы, и самыми тяжкими были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.
Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и, наконец, еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде, – и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.
Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием, но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.