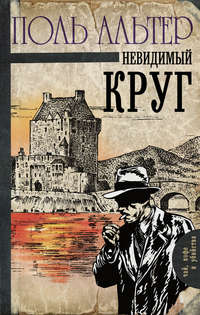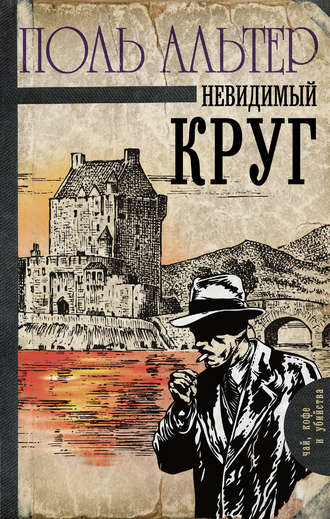
Полная версия
Невидимый круг

Поль Альтер
Невидимый круг
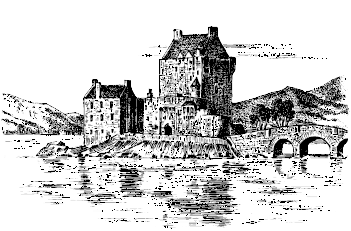
Глава 1
Подданные его величества всегда хранили память о короле Артуре: кто больше, кто меньше, а иные – больше других, как мы увидим в этой повести.
Не были исключением и Мэйдж Пирсон с Биллом Пейджем. В апреле 1936 года под вечер они беседовали вполголоса в недорогом чайном салоне около Оксфорд-серкус. Их мысли занимал великий король, а с губ Мэйдж то и дело срывались названия «Тинтагель», «Корнуолл»… Но о чем же они беседовали? Вид у обоих был серьезный и озабоченный – нечасто такой бывает у молодой пары.
Правда, и в зрелище, открывавшемся перед ними за стеклянной дверью, возле которой они сидели, было нечто грандиозное и тревожное. Я имею в виду, конечно, необычное, завораживающее зрелище вечернего Лондона, когда на небе с грозными тучами у самого иссиня-черного горизонта горит красный диск заходящего солнца. На фоне последней оранжевой полосы вырисовывалась длинная линия – лес закопченных труб и острия готических церковных шпилей. Так что не приходилось напрягать воображение, чтобы мысленно перенестись в Средние века – во времена зубчатых стен и мрачных, сырых башен. Отовсюду исходило глухое, таинственное чувство угрозы. Казалось, оно поселилось и в умах нашей пары.
Мэйдж исполнилось двадцать два года. Она казалась очень решительной девицей, хотя на самом деле была не слишком уверена в себе и даже немного пуглива. Большие голубые глаза, фарфоровая кожа и пышная каштановая шевелюра выдавали впечатлительную, простодушную натуру. Биллу Пейджу, как полагала она (спросить еще стеснялась – они всего с месяц как познакомились), было около тридцати, и Мэйдж считала, что ему лучше было бы одеваться не так строго и носить очки не в такой толстой оправе. Прямой пробор, разделявший черные волосы, ей тоже не слишком нравился. Билл казался человеком, который изо всех сил старается выглядеть взрослым. По правде говоря, когда Мэйдж увидела его в первый раз, ее не то чтобы, как говорится, словно током ударило, но она нашла Билла симпатичным и сразу почувствовала, что с ним будет в безопасности. А это было для нее очень важно, особенно сегодня, когда девушка получила письмо от дяди Джерри.
– Я боюсь его, Билл, – шептала она, умоляюще глядя на молодого человека. – Всегда его боялась – но ехать, наверное, надо, иначе нельзя…
Билл задумчиво постукивал по столу пальцами возле чашки с чаем.
– Ты мне о нем ничего не рассказывала. Боишься? Но почему?
– Вообще-то, – неохотно начала Мэйдж, – я его почти не видела. На самом деле он мне не дядя, потому что и отец мне не отец, и они по-настоящему не братья, и… – Она глубоко вздохнула. – Наверное, лучше начать с начала.
– Да, пожалуй, – с улыбкой заметил молодой человек.
– Мне еще не было и двух лет, когда меня забрали из приюта, поэтому с детства я помню приемных родителей, мистера и миссис Пирсон. Я их считала родными. Как ты знаешь, теперь они тоже умерли… Маму я потеряла, когда мне исполнилось десять лет. У нее были больные легкие и оттого все время сильная слабость. Вот поэтому отец, чтобы она не напрягалась, два года подряд, до маминой смерти отправлял меня на летние каникулы к дяде Джерри. Ой, какие каникулы для десятилетней девочки! Наверное, мне никогда не суждено их забыть…
Дядя Джерри – не родной, а единокровный папин брат. Они сыновья Арчибальда Пирсона. Мой папа Колин от первого брака, а потом дед женился на Рут – очень красивой женщине, но немного помутившейся рассудком, а у нее от первого брака тоже был сын, Горацио…
– Как же все сложно, – заметил Билл, почесывая подбородок.
– Да, но скоро уже конец. И у них тогда родился второй ребенок, дядя Джерри. Оба брата…
– Оба? Кто именно? Я так понял, их было трое, считая Горацио – старшего сына второй жены твоего дедушки…
– Ну да… Только он с ними, кажется, жил недолго. У него психика была не в порядке, и его отправили в лечебницу. Так вот, эти двое каникул, которые на меня так повлияли… Я видела дядю Джерри второй или третий раз в жизни, совсем его еще не знала. Он живет один – не женат – в маленьком замке в Корнуолле, на берегу моря, рядом с деревушкой неподалеку от Тинтагеля. Ну и местечко! – Мэйдж вздрогнула. – Нужно видеть, чтобы понять. Дом стоит на скале – крохотный такой полуостров. Свищет ветер, бушует прибой… Дом высоко над морем, а море почти всегда свиперствует. Беспрерывно хриплые крики чаек. Мне тогда было, еще раз тебе напомню, восемь лет, совсем маленькая девочка, которая раньше никогда из дома не уезжала. Я еще и не видела дядю Джерри, а мне уже было страшновато. Правда, когда увидела, то не испугалась, он даже показался довольно приветливым, только смотрел на меня, как будто я какое-то редкое насекомое… Первые ночи я глаз не смыкала. Никак не могла уснуть: ветер пронзительно завывал, чайки кричали… Однажды вечером в кровати я почувствовала, как у меня по ногамчто-то ползет. Я завопила, вскочила, зажгла свет… По простыням разгуливал огромный паук! Вошел дядя Джерри, я показала ему на это страшилище, а он… а он…
– Что?
– А он ничего не сделал. Вообще-то, он меня утешал, но мне казалось, ему смешно от того, как я перепугалась. Мне даже в голову не приходило, будто он эту жуткую тварь подсадил ко мне нарочно, и все-таки дядюшка показался мне очень странным. Однажды вечером он под каким-то предлогом оставил меня в замке одну. Ужасная ночь! Мало того, что ветер так выл, что окна и двери все время хлопали – я вдруг услышала шаги наверху… Куда бы я ни шла, они всегда звучали прямо надо мной. А нигде никого не было. Когда он вернулся и я ему рассказала, он повел себя так же, как в случае с пауком. Как будто он тешился моим страхом, хотя и успокаивал меня, говорил, что мне просто почудилось…
Мэйдж замолчала, глотнула чаю. Голубые глаза от воспоминаний о тех страшных днях казались еще больше.
– Это все было в первый год – эти и еще несколько случаев. Я бы сказала, еще терпимых. И наверное, я бы и забыла про то лето, если бы на другой год туда не вернулась. Вот тут я думала, что действительно умру от страха. Каждую ночь все время какие-то странные звуки, а однажды мы гуляли с ним по дюнам – и вдруг я осталась одна в этом пустынном месте, а уже совсем стемнело… Я целый час рыдала от отчаяния и только потом его увидела. Он бросился ко мне и принялся ругать: «А я тебя везде искал, говорил же, чтобы ты никуда не отходила!» Но самое главное было после…
Недалеко от деревни, немного в стороне, есть старая деревянная лачужка. Она без окон, только дверь на засове снаружи: хлопнешь дверью, он упадет и закроется. Я там играла, нечаянно хлопнула и оказалась взаперти. Никак не выйти! Дело было к вечеру, вот как теперь, и вокруг никого. Я и кричала, и рыдала – все напрасно, никто меня не слышал. А ночью, когда стало совсем темно, я вдруг услышала, как вокруг бродят и воют волки… Всю ночь меня донимал страшный зверь. Яростно скребся в дверь когтями, совал морду во все щели и сопел, рычал, а я думала, какие у него должны быть огромные зубы… Я, наверное, никогда не забуду эту ужасную ночь.
Мэйдж вздрогнула, на несколько секунд прикрыла глаза и продолжала:
– Оказалось, это меня почуяла собака-овчарка – славная, очень ласковая. На рассвете она разбудила хозяина и привела его ко мне. Вскоре я увидела дядю – разумеется, он всю ночь меня искал. «Что ты наделала! А я вообразил, как ты упала со скалы, все кости переломала… или утонула… Представляешь, какая ночка выдалась у меня из-за тебя! Только и делал, что бегал с фонарем по берегу». Потом выслушал меня и стал утешать, как раньше… Но опять у него была эта странная улыбка. Я уверена: он только и делал, что поджидал момент, когда я нечаянно запрусь в лачужке, нарочно спустил собаку (он знал ее повадки) и всю ночь наслаждался моим ужасом.
Они помолчали. Билл прервал паузу.
– Даже не знаю, что и думать… – сказал он, нахмурившись. – Одно из двух: или твой дядюшка жуткий извращенец, или…
– Или я ошиблась? – закончила Мэйдж, недоверчиво скривив губы. – Вообще-то, может быть и так. Прошло немало лет, я была пугливая девочка и, возможно, сама себе что-то навыдумывала. Я и вправду ничего не знаю – слишком мала была, чтобы что-нибудь понимать. Уверена только в том, что тогда я умирала от страха.
– А что твои родители? Ты ведь им, я полагаю, все рассказала?
– Ну да… Но мама тогда была очень больна. Я рассказала отцу, но он оказался не в состоянии ничего слушать – так боялся за мамино здоровье. А когда она умерла, стало не до воспоминаний. Потом меня отдали в пансион: отец поехал в Африку с одним компаньоном добывать драгоценные камни, а меня с собой не взял. Прошло много месяцев, я никаких вестей о нем не получала. Компаньон тоже потерял его из виду и дал мне ясно понять, что особенно надеяться не стоит. Тем более что места там очень опасные. С тех пор прошло уже больше десяти лет.
Билл с серьезным видом кивнул и спросил:
– А какой он, этот дядя Джерри? Как выглядит?
Мэйдж рассмеялась:
– Ой, Билл, если бы ты себя видел! Тебе очень хочется удавить его, правда? Нет, не думай, это не рогатое чудище, изрыгающее огонь. Совершенно обыкновенный на вид человек, теперь ему должно быть лет сорок пять. Правда, у меня о нем воспоминания остались жутковатые, но это все из-за тех моих приключений. У него только одна особенность – по крайней мере то, что я заметила девочкой: очень странная улыбка.
– И с тех пор ты его не видела?
– Только на маминых похоронах. Потом, когда пропал отец, он мне написал раз или два, и все. Понимаю, что ты хочешь спросить. Нет, он не предлагал мне поселиться у него. И я бы все равно не согласилась.
Билл по-прежнему хмурился.
– Ты еще говорила о другом сводном брате, Горацио, которого поместили в специальное заведение. А что с ним, собственно, такое?
– Какое-то душевное расстройство, что именно – не знаю, но, должно быть, что-то довольно тяжелое. Толком мне никогда об этом не говорили.
– Если я правильно понял, у его матери с этим тоже было не все в порядке?
– У нее иногда случались депрессии. Она, бывало, уходила из дому, бродила по лесу – случалось, несколько дней подряд. Я понимаю, о чем ты думаешь: наследственное безумие, передалось сперва старшему сыну, Горацио, потом младшему – Джерри… – Мэйдж ненадолго замолчала, потом продолжила: – На самом деле дядя Джерри никогда на меня не производил впечатления помешанного. В худшем случае это очень злой человек. Не думаю, что папа доверил бы меня ему, если бы у него было психическое расстройство.
– Тогда, может, и не было, но есть болезни, которые проявляются только спустя много лет. И то, что ты мне сейчас про него рассказала…
– Перестань, Билл! Ты меня еще больше перепугаешь!
– Письмо от него у тебя с собой?
Мэйдж раскрыла сумочку, достала конверт и молча положила перед своим спутником. Билл прочел слова, написанные аккуратным ровным почерком:
«Тинкастл, 17 апреля 1936.
Дорогая Мэйдж,
мы не виделись уже целую вечность. Должно быть, лет пятнадцать. Думаю, ты очень изменилась с тех пор, как гостила у меня (помнишь тот приезд?). С тобой происходило много несчастий, которые, я уверен, остались среди незабываемых детских впечатлений. Надеюсь, у нас будет возможность поговорить среди прочего и об этом, если ты согласишься провести здесь несколько дней. Сделай все возможное, чтобы приехать сюда на этот уикенд: состоится чрезвычайно важная встреча. В замок съедутся человек семь-восемь, и твое присутствие необходимо. О чем пойдет разговор? Увы, не могу тебе об этом здесь рассказать, но ты понимаешь: я бы так не настаивал, если бы твой приезд не был делом первостепенной важности. Знай только, что это совершенно необыкновенное событие – из таких, которые не забываются. Если не сможешь приехать, немедленно дай мне знать, но я очень на тебя рассчитываю, малышка Мэйдж, в пятницу ты непременно должна быть с нами в замке – лучше всего ближе к вечеру.
Всегда твой любящий дядя».– Ну, что скажешь? – спросила Мэйдж, когда Билл вернул ей письмо. – Я не знаю, что и думать. С одной стороны, видеть его мне совсем не хочется, но, с другой стороны, это мой единственный оставшийся родственник и… Так как ты считаешь?
Билл на какое-то время задумался.
– Не вижу ничего подозрительного… Только скажи: у тебя есть какие-то идеи насчет предмета этой встречи?
– Ни малейших. Это не может быть семейный совет: ведь мы с дядей, так сказать, последние с корабля.
– «Совершенно необыкновенное событие»… – задумчиво повторил Билл. – Это может означать что угодно… Например, свадьба.
– Из этого обычно такой тайны не делают.
– Больше ничего странного не вижу, но… – Билл подвинулся ближе к Мэйдж и взял ее за руку. – Но я не хочу отпускать тебя одну.
Девушка от удивления широко распахнула глаза:
– О, Билл! Ты поедешь со мной?
– Нет-нет, одну я тебя точно не отпущу! После того что ты рассказала, иначе я поступить не могу. Так что если ты согласна…
Мэйдж просияла, хотя осталась все так же бледна:
– Билл, как здорово! Если бы ты знал, как я рада! Это будет наша первая большая поездка вдвоем. А знаешь, без тебя я бы все равно отказалась.
– Одну я тебя не пущу, – мужественно повторил Билл еще раз и поправил очки.
Глава 2
Чистокровный корнуоллец Гэйл Блейк был безгранично предан родному краю. Он писал стихи и любил покой этих диких мест, просторные возвышенные равнины, покрытые вереском и обрывавшиеся в море крутыми утесами, грандиозные живописные скалы, бесчисленные бухточки с золотистым песком. Любил эти глубоко изрезанные берега, вылизанные морем, зрелище волн, разбивающихся о скалы, хриплые жалобы чаек, свежий ветер, несущий соленые ароматы… Любил Корнуолл. Одиноко бродя по дюнам, по прибрежным дорогам, он мечтал, с неизменным интересом вглядываясь в окрестности. Блейк был холост и мог сколько угодно предаваться своей страсти.
Впрочем, это была не просто страсть. В каком-то смысле наблюдение за природой, поиск подходящей атмосферы для него как для поэта являлись работой. Собственно говоря, выручки от сочинений ему едва хватало, чтобы прокормиться, но он довольствовался малым, а жил в небольшом домике из гранита у моря на северной стороне полуострова. Роста он был внушительного, с могучей фигурой, черной бородой по грудь – тоже внушительной, под стать владельцу. Ему было за пятьдесят, но силы не покидали его. Тот, кто видел Блейка впервые, мог бы скорее принять его за корсара, флибустьера или контрабандиста, нежели за поэта.
Жил он довольно уединенно, но тем не менее знакомых у него было много. Кельт по крови и в душе, он участвовал во всех кельтских собраниях и праздниках тех мест, а часто бывал на них и почетным гостем. Зато Блейк с трудом скрывал вражду ко всем, кого считал завоевателями и незваными гостями, то есть почти ко всем некоренным жителям. Часто это чувство окрашивалось юмором и насмешкой, потому что ему нравилось спорить, нравилось задирать пришельцев в своих любимых пабах. Но иногда – если действовал хмель или гость попадался обидчивый, не понимал его шуток, – от перебранки дело доходило до настоящей ругани, а то и до кулаков. Так как Блейк был человек сильный, драки почти никогда не заканчивались в пользу его оппонентов, и потом друзья рассуждали между собой: «Не думал я, что поэты такие… Я знал, что он мастер слова – а он и на кулаках мастер…»; «Александрийские стихи слагал и думает, что Македонским стал». На такие разговоры Гэйл не сердился. Он улыбался, и его светло-голубые глаза лукаво поблескивали.
В тот день он сидел, задумавшись, за кружкой пива в одном из своих любимых пристанищ – «Черном лебеде», почтенном пабе в Кэмелфорде. Вдруг появилась фигура – знакомая, но непривычная для этого места: профессор Джосая Халлахан, преподаватель истории в одном из бристольских учебных заведений, известный своими трудами по кельтской и средневековой истории. Он был немного старше Блейка и гораздо более хрупкого сложения. Если бы не длинная, почти совсем седая борода, его круглое лицо с румяными щечками было бы совершенно детским – к тому же и благожелательная улыбка почти никогда с него не сходила.
Блейк и Халлахан встречались на уже упомянутых кельтских празднествах и сразу друг другу понравились. Заказали по паре пива – и начались долгие разговоры.
– Послушайте, Джосая! – говорил Блейк своим громовым голосом. – Кто, как не вы, специалист по артуровскому вопросу? То, что вы недавно писали о Граале и Круглом столе, многих, правда, удивило, но потом все согласились. А мне особенно понравилась ваша последняя лекция. В ваших аргументах было нечто такое… магическое – оппоненты прямо онемели.
– А вы знаете, как они меня теперь называют? Чародей Мерлин! Представьте себе – я Мерлин, ни более, ни менее.
– А правда, что-то есть, честное слово! – развеселился Блейк. – Мне, признаться, тоже всегда казалось, что у вас имеется какое-то сходство с Мерлином. Это ведь довольно лестно – разве нет?
Джосая Халлахан ответил не сразу. Погрузившись в свои мысли, он поглаживал тщательно расчесанную бороду и вдруг спросил:
– Знаете, что привело меня сюда? Я снял комнату до пятницы…
Блейк развел руками, тогда историк задал другой вопрос:
– А Джерри Пирсона вы знаете?
– Пирсона? Да, знаю немного. Кто его не знает! Он живет в доме на островке недалеко отсюда.
– Что вы о нем думаете?
Гэйл Блейк помрачнел, секунду подумал и ответил:
– Да мы как-то мало знакомы…
– Если бы спросили меня, я бы ответил то же самое. А между тем я здесь как раз из-за него. Он пригласил меня провести у него уикенд. Признаться, я очень заинтригован.
– В честь какого-то необычайного события?
– Кажется, да. Но беда в том, что он не объяснил ничего конкретно – написал только, что будет чрезвычайно важная встреча. И все.
– И вы согласились.
Халлахан невесело улыбнулся:
– Гэйл, вы же знаете, что я от природы болезненно любопытен. Меня всегда страстно влекли различные загадки, да и сам Джерри Пирсон тоже… Мы редко виделись, но всякий раз мне казалось, что он на своем островке около Тинтагеля воображает себя королем Артуром!
Фрэнк Данбар сидел в уголке купе для курящих и смотрел на унылый сомерсетский пейзаж за окном, такой же грустный, как и он сам. Когда уезжаешь из дома, бывает, тянет подвести итог своей жизни, дать ей общую оценку. Его оценка, думал он, не блестящая, и это еще мягко сказано. Сорок лет, не женат, пьет больше, чем нужно, а профессия журналиста сделала его разочарованным человеком, лишившимся последних иллюзий. В какой момент он вступил на эту наклонную плоскость? Ответ Фрэнк находил без колебаний: в тот, когда повстречал эту женщину – Урсулу Браун. Она его буквально околдовала. По зеленеющим дюнам, бесконечной чередой расстилавшимся перед ним, скользил ее призрачный силуэт.
Урсула… Тонкая, гибкая, с роскошными рыжими волосами. Взгляд ее глаз цвета морской волны – из тех, которые не забудешь: веселый, глубокий, манящий и опасно мятежный: глубокие воды волшебного озера, где тонут неосторожные купальщики. И Фрэнк Данбар в том числе.
Когда они встретились на перроне вокзала, им обоим было чуть за двадцать. Растерянная, растрепанная, она сидела на скамейке с огромным чемоданом. Фрэнк сразу поставил диагноз: несчастная любовь – и не ошибся. Сначала он ни о чем ее не расспрашивал, а просто старался показать себя с лучшей стороны. Она была покорена и открыла ему сердце – рассказала о страшном разочаровании, из-за которого пережила самые тяжелые минуты в жизни. Человек, ради которого Урсула оставила все, вдруг в одночасье бросил ее, как вышвыривают паршивую собаку. Она старалась ублажать его малейшие прихоти, а он становился все более требовательным, раздражительным, потом непреклонным, а иногда и жестоким: ему (Урсула была в этом убеждена) нравилось смотреть, как она страдает…
Фрэнк вспоминал горькие признания девушки, необычайный блеск ее ясных глаз: «Да, ему, наверное, нравилось видеть, как я страдаю… Однажды он подарил мне великолепное вечернее платье, я была сама не своя от радости. А за несколько часов до первого вечера, где я должна была показаться в этой красоте, он как бы нечаянно толкнул бутылку с сильным чистящим средством, все пролилось на платье – и оно превратилось в тряпку для протирки мебели. Под присягой не скажу, но уверена: он это сделал нарочно. В Джерри было что-то извращенное, он словно забавлялся, видя страдания людей, а мои – особенно».
Потом Фрэнку приходилось задавать себе те же вопросы, но уже касательно Урсулы, и его мнение о неведомом Джерри изменилось несколько к лучшему. Что до извращенности натуры, Урсула по этой части не уступила бы никому. Пока длился их роман, она дарила Фрэнку блаженство и муки, бросала из рая в ад, сегодня была без памяти влюблена, а завтра – противна и зла, холодна и надменна, проводила вечера с другими – «старыми приятелями». Она нарочно заставляла его страдать, при всяком удобном случае для своего удовольствия разжигая его ревность. Например, однажды Урсула приняла за Фрэнка одного его знакомого, который на него был отдаленно похож, и сказала, что это произошло по близорукости. Какая близорукость? Она не носила очки! Он ей это заметил, а она с вызовом ответила, что очки ее портят. По-настоящему ему бы вздохнуть с глубоким облегчением, когда в одно прекрасное утро Урсула заявила, что все кончено, и выставила его за дверь так быстро, что даже тот самый Джерри (Фрэнк как раз о нем вспомнил) удивился бы, и Данбар, в свою очередь, оказался на улице с чемоданом в руках.
Был ли похож на правду портрет Джерри, нарисованный Урсулой? Не сама ли она была тем извращенным созданием? Может быть, Джерри был просто умнее и смелее Фрэнка, устал от причуд Урсулы и решил порвать с ней первым. А могла ли гордячка с подобным смириться? Да ни за что! Вот этим, может быть, и объяснялась глубокая хандра, в которой он застал ее тогда на вокзальной скамейке.
С тех пор прошло лет двадцать. Приближаясь к Корнуоллу, где жил тот самый Джерри, которого Фрэнк никогда не видел, он с каждой минутой все сильнее ощущал эти годы. Урсулу он тоже никогда больше не встречал. Она взяла его сердце в свои жарко-ледяные руки да так назад и не отдала. Он ненавидел ее – и все так же любил.
Поезд замедлил ход. Журналист вышел в коридор, достал из внутреннего кармана пиджака бутылку виски и глотнул. Закурил и смотрел, как приближается станционное здание. Заскрипели тормоза, поезд остановился.
– Таунтон, стоянка пять минут, – объявил металлический голос.
Корнуолл был уже совсем близко. Фрэнк Браун, естественно, волновался, но виду не подавал. И вдруг выражение его лица изменилось, а горло как будто обручем сдавило: среди пассажиров, выходящих на перрон из-за белого барьера, он увидел женскую фигуру, все такую же грациозную и красивую, которую узнал бы из тысяч: Урсулу Браун…
Чарлз Джерролд сидел в кресле в своей уютной, богатой лондонской квартире и с интересом читал «Таймс». То был элегантный человек лет пятидесяти, с седеющими висками, скромным и благожелательным взглядом. Никто бы не удивился, узнав, что это опытный психиатр, служащий в одной из лучших клиник столицы. Но вид его не говорил о том, что в работе он был тверд и строг, непреклонен с пациентами, и не всем больным это нравилось.
– Невероятно… – прошептал доктор, сворачивая газету.
– Что невероятно, Чарлз? – спросила его жена Алиса – довольно высокая, медлительная блондинка, аккуратно укладывая костюмы мужа в саквояж.
– В прошлом месяце они отпустили этого психа…
– Какого психа?
– Того, который лет десять назад убил то ли троих, то ли четверых в театре где-то на севере. Невероятно…
Миссис Джерролд выпрямилась.
– Знаешь, Чарлз, чего бы мне очень хотелось?
– Чего?
– Чтобы, если у меня когда-нибудь начнутся проблемы с психикой, меня лечил не ты. Право, по-моему, ты слишком строго судишь.
– Я знаю, о чем речь, Алиса.
– Все твои коллеги говорят…
– Пусть говорят. Я делаю свое дело, насколько в нем понимаю и как считаю нужным его делать. И полагаю, что в данном случае отпускать этого типа слишком рискованно – вот и все.
– И в данном, и в том, и во многих других случаях. Послушать тебя, так половина подданных его величества должна ходить в смирительных рубашках.
Чарлз Джерролд только чуть пожал плечами.
– И что интересно, – продолжала Алиса. – Тебя какой-то незнакомец приглашает в гости в Корнуолл, а тебе это не кажется подозрительным.
– Дорогая, прошу тебя! Перестань меня пилить. Ты прекрасно знаешь: я еду туда без всякой охоты и предпочел бы провести спокойно уикенд дома, с тобой. Но пойми, люди нашей профессии не могут отказываться, когда кто-то обращается к нам за помощью. Да и Джерри Пирсон мне не совсем незнаком. Я точно помню, что слышал о нем. К тому же его знает сэр Юстас.