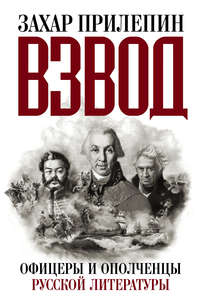Полная версия
Обитель
Взамен усаживались новые, бессчётные.
Мужичка хватило ненадолго, уже через полчаса он еле сипел. Десятник время от времени подбадривал его дрыном.
Принесли обед; мужичок, косясь на еду, выкрикнул из последних сил про филона и паразита и шагнул было за пайкой, но десятник не понял, к чему это он.
– Ты куда, певчий клоп? Куда собрался? – заорал десятник. – Ты думаешь, ты заработал на пожрать? Какой обед филону? Тысяча штрафных!
Артём даже не смотрел, что происходит, только слышал, что бьют по живому и беззащитному с тем ужасным звуком, к которому он так и не привык к своим двадцати семи.
* * *“Что же такое? – беспомощно и обрывочно думал Артём, подъедая обед. – Почему так всё совпало? До сих пор как-то уворачивался!.. Что теперь делать с этим Ксивой? За ним блатных свора… Не Василий же Петрович будет со мной… Да ещё я зачем-то его обидел!.. А с десятником? Какой стыд! Как я бежал от него – стыд! Почему же я не убил его?..”
Артёма никто и не бил никогда, кроме отца. Но отец – когда это было!.. Он даже имя его забыл.
К тому же оставалось штук семьдесят баланов – как и не начинали.
Афанасьев, у которого откуда-то находились силы говорить, рассказывал про чеченцев. Артём вяло слушал, иногда забываясь. Тем более что мужичок так и сипел ещё:
– Я филон, я филон, я паразит… советской… власти!.. Я филон… Паразит…
– Не филонь, филон, – куражился десятник Сорокин. – Сначала два раза про филона, потом – паразит. А то нескладно звучит. И громче, громче! Ну!
Артём отыскал себе веточку на земле поровней да повкусней – обкусал концы, приладил в зубы. Сидел, расчёсывая ногтями колени – разгоняя так кровь.
“Нельзя слабеть! Нельзя подыхать раньше времени!” – повторял себе, разгрызая ветку.
Потом выплюнул её, укусил себя несколько раз за руку – пробуя чувствительность.
– …Характер не поймёшь какой у этих ребят, – всё рассказывал Афанасьев, пытаясь говорить так, чтоб его было слышно за криками мужичка. – Который младший чечен – пошёл за пайкой в каптёрку, принёс три. Как он там их уговорил, что сказал, я не знаю… Вроде отзывчивые – но сразу беспощадные… и наивные как дети, и хитрые… Чудный народец!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
– Сегодня холодно.
– Холодно и сыро.
– Это не погода, а лихорадка.
– Не погода, а чума (фр.).
2
– В труде спасаемся? (фр.)
3
– Именно так! (фр.)