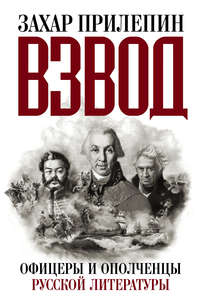Полная версия
Обитель
Всё утро старался не попадаться ему на глаза – получилось.
Василий Петрович купил себе ложку: тут же похвалился.
Афанасьев ходил задумчивый: его сняли с должности дневального, хотя вроде только что назначили. Это была хорошая должность, тёплая, особенно зимой. За место дневального держались всеми когтями.
Вместо Афанасьева дневалить стал чеченец – Хасаев; третий их соплеменник, самый молодой, тоже постоянно крутился в роте. Казак Лажечников теперь мимо дневальных стремился пройти поскорей, глядя в пол, а воду из бака возле поста перестал пить вовсе.
На поверке ротный Кучерава ругался так бестолково, нудно и мерзостно, что Артём почувствовал лёгкую тошноту.
Наряд ему выпал на баланы; Артём не удивился – к этому всё и шло.
“Баланы так баланы, посмотрим, что такое там…” – подбодрил себя Артём, довольный уже тем, что Крапин не обмерил его ещё раз дрыном, – вместо того взводный выбивал дух из какого-то блатного, не спешившего выйти на работу в кальсонах: других штанов не имелось.
– Лес ворочать? – смуро спросил Артёма Афанасьев. – И я тоже.
Помимо них тот же наряд выпал Моисею Соломоновичу, Лажечникову, Сивцеву, китайцу, битому Крапиным блатному, ещё двоим той же масти и какому-то малоприметному низкорослому мужичку, про которого Артём помнил только то, что он непрестанно бормочет, вроде как уговаривая самого себя.
Стояли во дворе, ждали десятника. С утра вечно не поймёшь, где лучше быть: в роте все орут и матерятся, а на улице эти неуёмные, оголодавшие за ночь чайки. У Артёма однажды, едва заехал на Соловки, так же вот с утра чайка выхватила припасённый на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись – было обидно. Артём почти всерьёз поклялся себе перед отбытием на материк оторвать крыло у одной чайки – чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как это бывает, когда больно.
Вообще чаек стоило опасаться – они по-настоящему могли напасть и клюнуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало. Хлеб Артём ещё в роте спрятал, причём не в штаны, а в бельё – там тоже был удобный кармашек. Угощать он этим хлебом никого не собирался, а собой не брезговал.
– Почему не дневалишь больше? – всё-таки спросил он Афанасьева, – Только вроде заступил. Не самая трудная должность. Стихи можно было б сочинять – время есть.
Артём посмотрел на Афанасьева и понял, что тому не очень хочется шутить на эту тему.
– Это в ИСО решается, – ответил Афанасьев нехотя. – С Галей не сошёлся характерами.
Стоявший рядом Василий Петрович как-то странно взглянул на Афанасьева и отвернулся.
– А за чеченцев Кучерава попросил, – добавил Афанасьев спустя минуту. – Они ж там все соседи по горам.
Артём кивнул и, так как Афанасьев был не в духе, прошёл к Василию Петровичу, который опять получил бесконвойный наряд по ягоды и ожидал свою бригаду.
– Только не выражайте мне соболезнования, Василий Петрович, – за несколько шагов, улыбнувшись во все щёки, попросил Артём.
– Улыбайтесь, улыбайтесь, – сказал Василий Петрович печально и, лёгким движением прихватив Артёма за локоть, немного развернул его в сторону; Артём, молодо ухмыляясь, подчинился.
– Вы, я смотрю, дружны с Афанасьевым, – внятно и негромко произнёс Василий Петрович. – Я вам хочу сказать, что на должность дневальных назначают строго стукачей, так что…
– Его ж как раз сняли с должности, – ответил Артём чуть громче, чем следовало бы, и Василий Петрович тут же своими очень уверенными и неестественно крепкими пальцами за локоток повернул Артёма ещё дальше, в сторону колонны священников, отправившихся строем на свою сторожевую работу.
Священники шли кто поспешливо, кто, напротив, старался степенно, но строй спутывал всех. Над ними кружились, иногда резко снижаясь, чайки… И эти бороды, и эти рясы, и эти чайки, иногда окропляющие белым помётом одежды священников, – всё вдруг будто остановилось в глазах Артёма, и он понял, что запомнит увиденное на целую жизнь – хотя ничего его не поразило, не оскорбило, не тронуло. Просто почувствовал, что запомнит.
– Шестая рота – не что-нибудь, – сказал кто-то громко и насмешливо. – Шестая рота – ангельская! – раз, два, и на небесах. За что страдают? Ни словом, ни делом, ни помышлением. Безвинно, во имя твоё, Господи.
– Смотрите, – говорил Василий Петрович очень спокойно. – Это Евгений Зернов, епископ Приамурский и Благовещенский. Это Прокопий, архиепископ Херсонский… Иувеналий, архиепископ Курский… Пахомий, архиепископ Черниговский… Григорий, епископ Печерский… Амвросий, епископ Подольский и Брацлавский… Киприан, епископ Семипалатинский… Софроний, епископ Якутский, – сменил одни холода на другую непогодь… Вот и наш владычка, батюшка Иоанн…
Василий Петрович в приветствии чуть склонил голову, прихрамывающий и оттого торопящийся больше других владычка Иоанн весело помахал рукой – что-то то ли очень детское, то ли старозаветно взрослое было в этом жесте. Будто бы ребёнок говорил: “Я не отчаиваюсь”, а древний человек вторил: “И вы не отчаивайтесь”, – и всё в одном взмахе.
– Вы откуда его так хорошо знаете? – спросил Артём.
– Отчего хорошо? – ответил Василий Петрович. – Просто нас доставляли сюда вместе, в одном трюме. Все были злы и подавлены – а он улыбался, шутил. Его даже блатные не трогали. Возле него как-то остро чувствуется, что все мы – дети. И это, Артём, такое тёплое, такое нужное порой чувство. Вы, наверное, ещё не понимаете…
Артём осмотрелся по сторонам и поинтересовался:
– А вот там, в сквере, он про советскую власть говорил – как вы думаете, правда?
Василий Петрович пожал плечами и быстрым движением убрал руки за спину.
– Всё правда. Правда, к примеру, то, что вы можете оказаться стукачом – он вас первый раз в жизни видел.
Артём невесело посмеялся, отметив для себя, что таким строгим Василия Петровича ещё не видел, и перевёл тему:
– Тут мне сказали, что Эйхманис помнит едва ли не весь лагерь по именам…
– Очень может быть, – ответил Василий Петрович задумчиво.
– А вы… всех этих священников… когда запомнили, зачем?
– Эйхманису их сторожить, а мне с ними жить, – бесстрастно сказал Василий Петрович, глядя прямо перед собой. – Я эти лица запомню и, если вернусь, расставлю дома, как иконки.
Артём ничего не ответил, но подумал по-мальчишески: а чем они святее, чем я? Я тоже жру суп с вяленой воблой или с безглазыми головами солёной рыбы и вместо мяса – палую конину; зато они сторожат, а я пойду сейчас брёвна таскать.
Василий Петрович тряхнул головой и, чтоб чуть снизить патетику, заговорил совсем другим тоном, куда доверительней, разом становясь тем человеком, который так нравился Артёму:
– Я тут подумал… отсюда, из Соловков, святость ушла ещё в пору Алексея Михайловича – знаете, Артём, наверняка эту историю, когда в 1666 году монастырь восстал против Никоновой реформы? А спустя десять лет осады его взяли, и бунтовавших монахов, и трудников – всех закидали камнями, чтоб сабли не грязнить и порох не переводить. Как произошло это – так и не случалось на Соловках больше ни монашеских подвигов, ни святых. Двести с лишним лет монастырь качался на волнах – немалый срок. Как будто готовился к чему-то. И вот, не поверите, Артём, мне кажется, пришли времена нового подвижничества. Русская церковь именно отсюда начнёт новое возрождение… Вы, наверное, ребёнком ещё были, не помните, что за тяжкий воздух был до прихода большевиков.
“Как у нас в бараке?” – хотел спросить Артём, но не стал, конечно.
– Интеллигент возненавидел попа, – перечислял Василий Петрович. – Русский мужик возненавидел попа. Русский поэт – и тот возненавидел попа! Мне стыдно признаться – но и я, Артём, попа возненавидел… И не поймёшь сразу, за что! За то, что русский поп беспробудно пил? Так чего ж ему было делать? Ненавидят ведь не из-за чужой дурноты, а из-за своей пустоты куда чаще… Вы на Второй Отечественной не были, а я был и свидетельствую: когда солдатам предлагали исповедоваться перед боем – девять из десяти отказывались. Я увидел это сам и тогда уже – сам себе удивляясь! – понял: войну проиграем, а революции не убежать – народ остался без веры. Только этим и могло всё закончиться!.. Закончиться – и тут же начаться. Здесь.
– В тринадцатой роте, – вдруг вспомнил и не смолчал Артём, – параша стояла в алтаре. Помните? В моей партии был один священник – так он ни разу туда и не сходил. Ночью поднимался и шёл на улицу, в общий сортир. Пока ходил – его место занимали на нарах. Утром встаём – он сидя спит где-нибудь в уголке, чуть не замёрзший.
– И что вы думаете? – спросил Василий Петрович.
Артёму явственно захотелось позлить своего товарища – это было твёрдое и малообъяснимое чувство.
– Я думаю: дурак, – ответил Артём.
У Василия Петровича дрогнула челюсть – будто бы Артём у него на глазах толкнул больного; он отвернулся.
Его уже ждала собравшаяся партия с корзинами; появился и десятник Артёма, сразу заорал, как будто ему кипятком плеснули на живот.
– Да иду, – сказал Артём, скорей себе, чем десятнику, – иначе можно было бы и в зубы получить.
Десятник был такой же лагерник, сидевший за три то ли за пять убийств, родом – московский. Фамилия его была Сорокин. Он будто бы источал потаённую человеческую мерзость – кажется, она выходила из него вместе с по́том: какая ни была бы вонь в бараке – Артём, едва приближался к Сорокину, чувствовал его дух. Под мышками у Сорокина всегда были тёмные, уже солью затвердевшие круги, влажные руки его мелко дрожали, щетина на лице тоже была влажная и вид имела такой, словно это не волосы, а грязь, вроде той, что остаётся на полу сеновала – колкая, пыльно-травяная сыпь.
Сорокин, как говорили, был любитель придумчиво забавляться над лагерниками – хотя, стоит сказать, каэров он не бил. Их по негласному завету лагерной администрации вообще не было принято трогать, так что желающие позверовать отыгрывались на бытовиках.
Шли на работу лесом, нагнали партию Василия Петровича, тот, оглянувшись, встретился глазами с Артёмом – и тут же отвернулся, болезненно, как от резкого колика, сморщившись.
Артём хотел было про себя пожалеть, что отказался идти по ягоды, но мысли эти прогнал. Про то, что зачем-то надерзил Василию Петровичу, он не думал. Характер у него был не зловредный, но эту черту – вдруг ткнуть в открытое – он за собой знал. И никак об том не печалился.
“Быть может, я не люблю, когда открывают то, что болит…” – подумал Артём, чуть улыбаясь.
“…Про веру рассказывает, – подумал ещё, – а сам Моисея Соломоновича убрал из своей бригады… Нет бы пожалел…”
Сорокин всю дорогу орал и матерился непонятно на кого и по какому поводу, как будто с утра поймал бациллу от Кучеравы. Даже конвойные на него косились.
Артём вдруг представил, как берёт большой сук, побольше, чем дрын Сорокина, и резко, с оттягом бьёт десятника по затылку. Это было бы счастье.
И сразу б такая тишина настала…
Пошли бы ягоды собирать, песню бы спели, костёр развели…
А то даже Моисей Соломонович не поёт.
Артём переглянулся с Афанасьевым – тот, показалось, мечтал о том же самом.
Лесом вышли к каналу, который, как сказал Лажечников, соединяет Данилово озеро с Перт-озером. По каналу сплавляли брёвна с лесозаготовок, именуемые баланами. Артём разглядывал их с берега тем взглядом, каким, наверное, смотрел бы на некую обильную речную хищную сволочь, которую предстояло вытащить за жабры на берег.
– Есть два золотых дня – вчера и завтра, – приговаривал мелкий, метра в полтора мужичок, стоявший возле Артёма. – Вчера уже прошло, Господь позаботился о том. Завтра я вверяю ему, он позаботится и о нём. И остаётся один день – сегодня. Когда я молитвенно свершаю свой труд.
– Этот? – спросил Артём, кивнув на плавающие баланы.
Мужичок посмотрел на Артёма, на баланы и ничего не ответил.
– Баланы нужно доставить на лесопильный завод, – огласил задачу для всех собравшихся десятник. – Общий урок на день: сто баланов… О чём смотрим?
– Э, а багры там, верёвки? – спросил блатной, которому с утра уже досталось от Крапина.
– Верёвка тебе будет, когда тебя повесят! – заорал десятник.
– Ну, багры тогда, – не унимался блатной и, конечно, своего дождался: Сорокин набежал на него, ещё издалека потрясая дрыном, – блатной защищался и даже отмахивался исхудавшими грязными руками, получил и по рукам, и по бокам, и по башке. Только вскрикивал: “Начальник! Начальник! Чё творишь-то?”
На щеке блатного свисла клоком кожа, рука тоже сильно кровянила. “Раздевайся, в воду пулей! Дрын тебе в глотку, чтоб голова не шаталась!” – орал десятник. Блатной скинул свои драные порты – под портами он был голый, десятник сам потянул битого за рубаху к воде – рубаха так и разорвалась надвое.
Чтоб с ними то же самое не проделали, остальные поспешно начали раздеваться сами.
– Куда, бля! – заорал десятник, отстав наконец от блатного, который поскорей забежал в воду по пояс и стоял там, отирая кровь. – Разделись, бля, как в кордебалете! Самые молодые – в воду, остальные принимают баланы на берегу! Тупые мудалаи, мать вашу за передок!
“Про кордебалет знает, смотри ж ты”, – думал Артём, снимая штаны.
– Сука, холодная, – сказал один из блатных, заходя в воду.
“Да ничего, в самый раз, – подумал Артём. – Ночью дожди идут, чуть подостыла… Зато когда в воде – комаров меньше…”
– Нате, кровососы, даже кусать не надо, так слизывайте, – вытянул битый блатной кровоточащую руку комарью и сипло засмеялся; по его виду казалось, что он не очень переживает о зуботычинах десятника.
Никто не хотел оставаться на берегу рядом с десятником: один за другим полезли Сивцев, Афанасьев, Моисей Соломонович. Мелкий мужичок прошёлся туда и сюда вдоль берега, всё повторяя: “Была бы спина – найдётся и вина!” – а потом тоже шагнул в воду.
Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову – он шёл и шёл по воде, и ему всё было мелко; а мужичок, едва ступил, сразу как-то потерялся до подбородка и только вздыхал теперь: “Боже ты мой! Спаси, Господи!” Сделал ещё шажок – и едва не пропал вовсе.
– Куда ты полез, клоп! – заорал десятник на него. – Ну-ка, на берег! Ты что там, клоп, верхом на баланах будешь плавать? И ты, длинный, сюда, – указал на Моисея Соломоновича. – У тебя руки как раз, чтоб принимать брёвна, вместо багра будешь.
У Сивцева было ещё крепкое тело, на спине весьма виднелся красноречивый шрам, кажется, от шашки. У Лажечникова такой же шрам шёл от плеча почти до соска.
Блатные были в наколках.
“Во, собрались какие все…” – подумал Артём неопределённо, косясь на своё чистое тело, даже без волос на груди.
Афанасьев, впрочем, тоже оказался без особых примет, только в мелких родинках.
Артём добрёл, бережливо ступая по дну, до первого балана – как раз оказалось по грудь – и двумя руками потянул дерево на себя, отдуваясь от комаров.
Тихо матерясь, явился к нему на помощь битый блатной.
– Ксива, – представился он.
На лице у Ксивы было несколько прыщей и ещё два на шее. Нижняя губа отвисала – невольно хотелось взять её двумя пальцами и натянуть Ксиве на нос.
Блатной протянул руку и, одновременно с тем как Артём пожал её, сказал глумливо:
– Держи пять, ГПУ даст десять.
Артём глубоко вдохнул носом и ничего не ответил.
– Ладно, не ссы в штаны, ссы в воду, – не унимался блатной и всё поглядывал на Артёма.
– Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? – сказал Артём, потому что уже надо было что-то сказать.
– Баба тебе будет давать, а ты в ней хер полоскать, – сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артёма. – Так что давай без давай. Десятника хватает.
– Слушай, – наклонился к нему Артём, стараясь говорить в меру миролюбиво. – У тебя есть напарники, – тут Артём кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, – ты с ними будь, а я буду со своим дружком. Годится?
Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.
Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артёму, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок ещё, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артёма.
Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб – тоже вроде не большого ума поступок. Стёр рукой брызги с лица, и всё.
* * *“А в воде попроще… – раздумывал Артём, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этот самом, как его, Ксиве, – работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело – по воде толкать баланы к берегу, а другое дело – тащить их на себе посуху”.
Но Артём не угадал, конечно.
Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их – сырые, скользкие и ужасно тяжёлые – за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползать на сушу.
Если четыре мужика могли справиться с баланом – значит, он был самого малого размера.
В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объёме и длиной не больше пяти метров – чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.
Берег к тому же был каменистый – ступать по нему, еле удерживая балан, казалось мукой.
Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл “зайчатина”. “Давай, зайчатина, мыряй глубже… – повторял он не без удовольствия. – Непапошный какой…”
Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него – тот сразу, как-то по-детски, заплакал.
– Я работал в конторе! – всхлипывал он. – С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже!
“Юродивый”, – подумал Артём раздражённо.
– Начальник, да нахер он не нужен! – прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушёл вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядком, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.
Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.
“…А десятник сказал, что урок – сто!” – ошалело, но ещё способный в мыслях позабавить себя, подумал Артём.
С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.
Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артём успел возненавидеть его как живое существо – неистово, пронзительно.
“Какой же ты, сука, тяжёлый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина…”
Впопыхах первый заход Артём сделал без рубахи. Ещё на полпути разодрал голое плечо о дерево.
Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артём неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром что поэт, оказался выносливым как верблюд: “Хорош танцевать, Тёма!” – просил он, тяжело дыша в нос.
Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артём неотрывно смотрел китайцу в чёрный затылок.
На лесопильном визжала пила – не видя пути, Артём по звуку понимал, что они близко, ещё ближе, ещё… вот, кажется, пришли. На “три, четыре” – командовал Афанасьев – сбросили балан, – такая благодарность во всём теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарьё…
Неприветливый, надгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проёме.
Обратно Артём бежал почти бегом – к своей рубахе.
– Куда погнал? За работой соскучился? – крикнул вслед Афанасьев.
Мокрое бельё противно свисало. Артём чувствовал свою закоченевшую, сжавшуюся и ощетинившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб в кармашке, сунул руку – так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперёд руку – как раз ту, что сжимала хлеб.
Осталось немного на пальцах: Артём лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду… облизывал руки в хлебной каше.
– О, затаился, – раздался позади голос Афанасьева. – Оленя выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?
Артём поднялся, почувствовал: вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.
Это был последний хлеб, впереди ещё два дня оставалось на пшёнке и треске.
…Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось – оскалился.
Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артём.
Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана – оставалось девяносто восемь.
На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый.
Обратил внимание на Сивцева – тот был будто бы в сукровице: поначалу Артём подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось – ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.
Возвращаясь, Артём тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы и шикши. С первого раза не получилось – десятник Сорокин заскучал на берегу и пошёл встречать припозднившихся работников: снова разорался как обворованный.
Во второй раз Артём угодил на ягодную россыпь – чёрт знает что за ягода, но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.
…Хоть на глаза и лоб перестали садиться.
Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал – тут же норовил спотыкнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.

Когда солнце зашло за полудень, мужичок отказался работать.
Подошёл, хромая на все ноги, к десятнику и сказал:
– Убей, я не могу.
– И убью, – ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом: – Будешь работать, филон?
Работающие остановились – всё отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.
– Я не могу! Не убей! – слабым голосом вскрикивал мужичок. – Не могу! Не убей меня!
Артём тоже тупо смотрел на это. “То – «убей!», то – «не убей!»”, – мельком заметил про себя.
Если бы мужичка убили бы сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.
“…Какое всё-таки странное выражение: «Не убей меня!», – снова заметил Артём. – Никогда такого не слышал…”
Когда кто-то крикнул: “Хорош, слушай!” – Артём какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артёма пошла трещина – ягодный сок присох, а рот раскрылся и щека будто пополам надорвалась.
Десятник, нисколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артёма, как в чистое поле.
Артём едва успел пригнуться, а то ровно в лоб бы угодило.
– Принеси, шакал, – скомандовал ему десятник.
В глаза десятнику Артём не смотрел, на других лагерников тоже. Скосился на двоих конвойных – они наблюдали за всем происходящим с единственным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и всё перетаптывался – так не терпелось.
Артём сходил за дрыном – тот лежал неподалёку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.
За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам”.
Выхватив дрын, десятник замахнулся на Артёма – но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде – работа, работа заждалась.
Даже рубаху не снял – так и влез в ней сразу по самую глотку. Остальные тоже полезли за Артёмом.
– Мне не по силам, гражданин десятник, – по слогам умолял мужичок на берегу десятника, – не-по-си-лам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!
Когда Артём с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.
Встав на пенёк, мужичок начал выкрикивать:
– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!
Ксива заржал, другие блатные тоже захехекали.
– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! – повторял мужичок как заведённый.
– Две тысячи раз, я считаю, – сказал десятник Сорокин, довольный собой.
Конвойные, парни ражие, тоже заливались.
Скопив на берегу десять баланов, снова отправились к лесопильному заводу. Левая рука была вся ободрана о кусты – когда танцевали по дороге на кочках, цеплялись за что попало. Теперь поменялись сторонами с Афанасьевым, и Артём цеплялся правой.
За спиной всё раздавалось:
– Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!
На обратной дороге Артём как следует выжал рубаху, но, странное дело, волглая ткань оказалась ещё холодней, чем насквозь сырая.
Ягодный сок с лица смыло, новых ягод не попадалось. С размаху бил комаров – на ладони россыпью оставались алые отметины – значит, сидели сразу дюжиной.