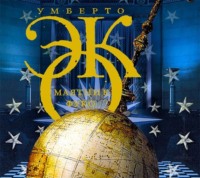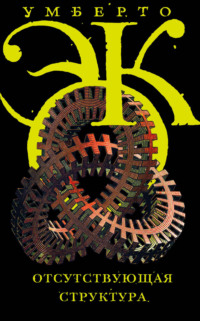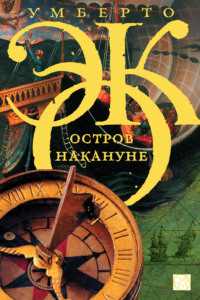Откровения молодого романиста

Откровения молодого романиста
Жанр: учебная и научная литературадокументальная литературазарубежная публицистиказарубежная образовательная литературапрочая образовательная литературакурс лекцийтворческая деятельностьиздательство Corpusсерьезное чтениезнания и навыкиоб истории серьезнолекции
Язык: Русский
Год издания: 2013
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента