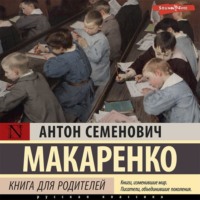Полная версия
Педагогические поэмы. «Флаги на башнях», «Марш 30 года», «ФД-1»
Ванда брезгливо обернулась к Рыжикову, но сейчас же и улыбнулась: вид скривившегося Рыжикова, очевидно, ей понравился.
– Ты его побил, да? За что?
Рыжиков приподнялся на локте, выпятил толстые губы. Рыжие космы в беспорядке спадали на лоб, почти закрывая наглые зеленые глаза.
– Ты чего скалишься? Он за тебя заступаться не будет[83].
Заложив руки за спину, Ванда покачала головой:
– А может, и будет!
– Смотри, Ванда![84] – Рыжиков вскочил на ноги, сжал кулаки.
Игорь улыбнулся, положил руку на плечо Вани, сказал в сторону, почти нехотя, скучно:
– Имейте в виду, сэр, в этом купе вы пальцем никого не тронете.
Рыжиков засунул руки в карманы, ухмыльнулся:
– Ты, наверное, не знаешь, кто она такая?
Игорь посмотрел на Рыжикова удивленно:
– А что такое?
– Ты, может, думаешь, что она вот какая барышня? Сказать, какая ты есть?
Ванда, ненавидяще, наморщила красные, припухшие от сна, губы…
– Пошел ты к черту! Жаба! Ну и говори! Все вы – сволочи!
Рыжиков обрадовался:
– Ха! Она же проститутка! Понимаешь, какое дельце?
Ваня вытянул к Игорю вдруг заострившееся лицо:
– Что? Что?
Ванда медленно пошла к краю платформы, подняла воротник жакета, втянула в воротник встрепанную голову. Игорь, гневный, двинулся к Рыжикову, но Рыжиков захохотал и, ловко перепрыгнув на другую сторону платформы, спрятался за трактором. Игорь звонко сказал ему вслед: – Там и сиди, покажешь нос, выкину на шпалы.
Ваня еле успевал следить за происходящим[85]. Он бросился, было, посмотреть, что делает Рыжиков, но передумал, подошел к Ванде, осторожно прикоснулся к ее локтю:
– Ванда, что он такое сказал? Как это?
Игорь легонько оттолкнул Ваню. Глядя в пол платформы, он спросил:
– Он правду сказал?
Ванда быстро повернулась, ответила с прежней ненавистью[86]:
– Ну, и пусть правду! А тебе какое дело? Может, поухаживать хочешь?
Игорь покраснел, скривил рот, отвел глаза от жадного взгляда Вани Гальченко.
– Да… нет! А только… сколько ж тебе лет?
Ванда кокетливо повела головой, чуть-чуть, через плечо, задела взглядом Игоря:
– Ну и что ж? Пятнадцать.
Игорь почесал медленно затылок, грустно улыбнулся и сказал:
– Хорошо… Больше ничего, синьора, вы свободны.
Ванда внимательно посмотрела на Игоря, но он не заметил этого.
Она тронулась с места, неслышно, медленно прошла к брезенту, зябко втягивая голову в воротник, медленно опустилась на брезент и тихонько улеглась, отвернувшись к трактору.
Игорь, тихо насвистывая, загляделся на степь. Далеко впереди встали из-за пологих холмов белые верхи зданий. Над ними нависло солнце. Оно своим хорошим, щедрым светом заливает землю, яркие, только что родившиеся, невинные, не знающие пыли озими, черные отвалы только что поднятых паров. Даже одичавший прошлогодний ток с бесформенными кучами грязной соломы, и тот молодился под солнцем.
Промелькнула внизу босоногая команда девушек, ноги у них были еще белые, не загоревшие. Одна из девушек что-то крикнула Игорю, другие засмеялись. Игорь проводил их скучным взглядом, отвернулся. Ваня взглянул на Ванду, осторожно прислушался к Рыжикову за трактором, стал рядом с Игорем, поднялся на носки, спросил шепотом:
– А кто это… проститутка? Скажи?[87]
Игорь ответил сурово, не глядя на Ваню:
– Малый ты еще… А только это… хуже всего, понимаешь?[88]
Ваня с испугом оглянулся на Ванду, подался вперед, но платформу сильно качнуло на стрелках.
– Приехали, – сказал Игорь.
Через многочисленные стрелки, мимо мелькающих просветов товарных составов поезд забирал вправо, быстро проходя пассажирскую станцию. Над крышами стоявших вагонов проплыли надстройка вокзала и длинные выпуклые кровли перронов. Поезд выскочил на узкую насыпь, которая правильной кривой огибала неожиданно широкий луг у самого края города. За лугом грелись на солнце соломенные крыши белых хат. Но снова стрелки дернули поезд, и он более осторожно начал втягиваться в широкую сеть товарных путей. Хат уже не было, на горе стояли и смотрели на поезд красные, серые, розовые дома города. Ваня сказал:
– Сан-Франциско? Да!
Ванда зашевелилась на своем брезенте, села, отвернула лицо к городу. Игорь ничего не ответил. Поезд вошел в узкую длинную перспективу других товарных поездов, очень медленно продвигался между ними.
Игорь задумался, глядя на проплывающую замасленную поверхность станионного полотна.
Сзади него что-то глухо стукнуло. Игорь быстро обернулся. На их платформе стоял, выпрямляясь[89] после трудного прыжка и внимательно разглядывая их[90], стрелок железнодорожной охраны. Ванда неслышной тенью слетела с платформы.
– Это ты – Игорь Чернявин?
– Я.
– Ага! Тут у нас телеграмма… Ты получил сто рублей по подложному переводу?
Игорь влепил в стрелка восхищенным взглядом:
– Ой, и народ же быстрый! Получил, представьте! Я отказывался, понимаете…
Стрелок грустно ухмыльнулся, кивнул:
– Идем.
Игорь почесал нос:
– Ах ты, черт! Жалко, Ванька, с тобой расставаться. Хороший ты человек! И Ванда… Вы понимаете, товарищ стрелок, некогда мне.
Ваня растерялся:
– А… куда ты?
– Я? Именем закона… арестован.
– За что?
– За бабушку страдаю.
Ваня вдруг понял:
– Так тебя в тюрьму? Да?
– Идем, идем, – повторил стрелок и тронул Игоря за плечо.
Игорь взялся за борт платформы, готовясь спрыгнуть. Оглянулся на Ваню:
– А ты, Ванюшка, иди в колонию. Здесь, говорят, приличная. Имени Первого мая.
Он спрыгнул. За ним спрыгнул стрелок. Опершись руками о колени, Ваня смотрел им вслед. Он еще не мог вместить в себя это горе.
Из-за трактора вышел Рыжиков. Он улыбнулся злорадно и играл:
– Будьте добры! Присылают записочку: дорогой Игорь, пожалуйста, возьмите сто рублей! Чистая работа! А Ванда где?
Ваня ответил испуганно:
– Не знаю.
7
На своей улице
– Куда ты пойдешь? – спросил Рыжиков, когда они подошли к остановке трамвая возле товарной станции.
Улица здесь была булыжная, изношенная, покрытая угольной пылью. Большое грузовое движение грохотало по ней. Из-под копыт и колес поднималось видимо-невидимо воробьев. У трамвайной остановки стояла очередь. У многих людей ботинки требовали чистки. Ваня не успел ответить: к нему подошел человек в форменной тужурке. Он добродушно кивнул к забору:
– Почистишь, что ли?
– Вам черной?
– Черной, а какой же? Вот спасибо, а то к начальству нужно, а ботинки…
Ваня присмотрелся к заборчику, там[91] сесть было не на чем. Подальше он увидел старое деревянное крыльцо.
– На ступеньках? Хорошо?
Человек, собирающийся к начальству, молча кивнул. Ваня побежал вперед, чтобы все приготовить. Когда клиент подошел, Ваня уже набирал мазь на одну из щеток…
– Э, нет, улыбнулся клиент, ты раньше пыль убери.
Ваня покраснел и приступил к работе. Рыжиков уселся повыше на том же крыльце и молча рассматривал улицу.
– Сколько тебе?
– Десять копеек.
– А сдача у тебя есть? С пятнадцати?
Ваня полез в карман. У него оказалось только четыре гривенника.
– Не рассчитаемся так. Ну, Бог с тобой, бери лишний пятак, ты парень, видно, не плохой.[92]
Ваня взял монету, улыбнулся.
– А я вам завтра почищу.
– Ишь ты какой? Ты думаешь, я у тебя каждый день буду красоту наводить?
Не успел клиент отойти, подошла девушка, попросила почистить туфли, потом – красноармеец. Красноармеец спросил:
– Сколько будет стоить, если вот сапоги?
Перед красноармейцем Ваня оробел. Он еще ни разу не чистил сапоги красноармейцам и не знал, сколько это стоит. Кроме того, почему-то ему стыдно было брать деньги с красноармейца. Ваня поперхнулся и произнес несмело:
– Де… десять копеек.
– Вот еще дурак, – прошептал Рыжиков, но красноармеец обрадовался, поставил ногу на подставку:
– Дешево берешь, малыш, дешево. У нас везде за сапоги двадцать копеек.
Ни тому, ни другому Ваня ничего не сказал. Он с большой охотой приступил к работе. Сначала смел пыль, потом основательно, долго намазывал сапог гуталином. Он забыл, правда, спросить: «Вам черной?» Работал он сильно, действовал глазами, бровями и даже языком. Быстро чистить двумя щетками он еще не умел, одна щетка вырвалась у него из рук и далеко отлетела. Рыжиков громко захохотал, но щетки не поднял. Ваня сам, кряхтя, поднялся и побежал за щеткой.
Красноармеец дал Ване гривенник и сказал:
– Спасибо тебе[93]. Дешево почистил, и блестит хорошо.
Он ушел, поглядывая на сапоги. У Вани заболели руки и спина, но было приятно, что красноармеец его поблагодарил. Опершись на локти, Ваня молча рассматривал улицу.
Дома на улице все были одинаковые, кирпичные, запыленные, двухэтажные. Между ними стояли короткие заборы, а в заборах ворота. Почти у всех ворот стояли скамейки, на скамейках сидели люди и грызли семечки. Ваня вспомнил, что завтра воскресенье. От этого стало как-то приятнее. По кирпичным тротуарам проходили люди по двое, по трое и разговаривали негромко.
Сзади открылась дверь, и скрипучий, неприятный голос спросил:
– А вам чего здесь нужно? Беспризорные?
Ваня вскочил и оглянулся. Лениво поднялся и Рыжиков. В открытых дверях стоял человек высокий, худой, с седыми усами:
– Беспризорные?
– Нет, не беспризорные.
– Чистильщик? Ага? А резиновые набойки у тебя есть?
В ящике у Вани было только две щетки и две банки черной мази. Ваня развел руками:
– Нет! Резиновых набоек нет!
– Хо! Чистильщик! Какой ты чистильщик! Ну, допустим! А этот чего?
Рыжиков недовольно отвернулся.
– Чего ты здесь? Ночи ожидаешь?
Рыжиков прохрипел еще более недовольно:
– Да никакой ночи… Вот… знакомого встретил.
– А… знакомого!
Старик запер дверь на ключ, спустился по ступенькам. Ткнул узловатым пальцем в направлении Вани:
– Этот, видно, трудящий. А ты – марш отсюда. Вижу, какой знакомый. Ты убирайся.
– Да я сейчас пойду. Что, и на улице нельзя остановиться? Ты, что ли, такие порядки выдумал?[94] – Рыжиков чувствовал свою юридическую правоту, поэтому обижался все больше и больше.
Старик усмехнулся:
– Плохие здесь порядки, а поэтому уходи, иди туда, где хорошие порядки. Я вот только в лавочку. Пока вернусь, чтоб тебя тут не было.
Он отправился по улице. Рыжиков проводил его обиженными глазами и, снова усаживаясь на крыльце, прогудел почти со слезами:
– Придирается! «Ночи ожидаешь»!
К ним подошел молодой человек и радостным голосом воскликнул:
– Какой прогресс! На нашей улице чистильщик! Да какой симпатичный! Здравствуй!
– Вам черной? – спросил Ваня.
– Черной! Ты всегда здесь будешь чистить?
Набирая мазь. Ваня серьезно повел плечами и сказал с небольшим затруднением:
– Да, я всегда здесь буду чистить.[95]
Этот клиент не спросил, сколько нужно платить, а без всяких разговоров протянул Ване пятнадцать копеек.
Ваня пропищал:
– Так сдачи нет.
– Ничего, ничего, я всегда буду платить тебе пятнадцать копеек. Мне только надо побыстрее.
Ваня опустил деньги в карман и снова начал рассматривать улицу. Приближался вечер, от этого на улице стало как-то уютнее и как будто чище. Ваню очень интересовал трамвай. Он много слышал об этой штуке, но никогда ее не видел, и теперь ему хотелось залезть в вагон и куда-нибудь поехать. Настроение у него было хорошее. Улица казалась своей, люди казались хорошими, а в душе разгоралась маленькая гордость: все проходят и видят, что на крыльце сидит Ваня и может почистить ботинки.
Рыжиков сказал:
– Ваня, знаешь что? Ты мне дай пятьдесят копеек, ладно[96]? А я тебе завтра отдам.
– А где ты завтра возьмешь?
– Чего это?
– Где ты возьмешь пятьдесят копеек?
– Это я уже знаю, где возьму. Надо пойти пошамать.
Ваня вдруг почувствовал страшный голод. Еще утром они съели на платформе остатки вчерашнего ужина.
– Пятьдесят копеек? А у меня есть сколько? У меня есть девяносто копеек. А, я и забыл про те деньги!
– Какие «те»?
– А мне Игорь дал… Только это… бабушкины.
Вася развернул бумажку, посмотрел на нее грустно и спрятал обратно. – А теперь его повели в тюрьму.
– Так дай пятьдесят копеек. Видал, сколько у тебя денег!
– Те нельзя тратить, – сказал Ваня и дал ему сорок пять копеек, поделив пополам имевшуюся наличность[97].
Рыжиков взял деньги:
– А ночевать… я приду.
Ваня с тоской вспомнил: нужно еще ночевать. Почему-то мысль об этой необходимости до сих пор ему не приходила в голову. Он даже растерялся:
– А где ночевать?
– Ты не думай. Найдем.
– На земле?
Рыжиков понюхал воздух, посмотрел на небо, на мостовую:
– Можно и на земле. Ты здесь посиди, а я пойду. Если бы солома или сено какое-нибудь. А то здесь на вокзале не позволяют. Ты посиди, а я поищу.
Рыжиков деловой походкой направился вдоль по улице. Ваня снова опустился на ступеньки и загрустил. Солнце зашло за дома. Мимо Вани проходили люди, и никто не смотрел на него. На противоположном тротуаре шумела стайка детей, голос балованной девочки сказал громко:
– А вон сидит маленький чистильщик.
Еще одна девочка загляделась на Ваню, но потом кто-то ее дернул, она засмеялась и побежала к калитке. Голос взрослой женщины сказал:
– Варя, твой суп простынет. Я тебе второй раз говорю.
И балованная девочка запела:
– Первый, первый, первый!
Ваня подпер голову кулаком и посмотрел в другую сторону улицы. По ней возвращался усатый хозяин[98].
– Сидишь? – сказал он. – А тот где?
– Ушел, – ответил Ваня.
– Ну и хорошо, что ушел. Да и тебе пора домой, никто больше чистить не будет. Только ты мне завтра резиновые набойки принеси.
Ваня спросил:
– А далеко отсюда лавочка?
– А тебе зачем? Покупать что будешь? Папиросы, наверное?
– Нет, не папиросы. А где она?
– Да вот тут за углом сразу.
Ваня сложил щетки и коробки, поднял ящик и отправился в лавочку. Он шел один по «своей» улице, и так ему было досадно, что нельзя больше чистить людям ботинки, а нужно думать, где ночевать.
8
Ночь[99]
Заночевали действительно в соломе, и оказалось, что это вовсе не далеко. Нужно по той же улице пройти два квартала, перейти через переезд, потом еще немного пройти, а там уже начиналось поле. Может быть, и не настоящее поле, потому что впереди было еще несколько огоньков, но здесь, за последним домом, было просторно, шуршала под ногами трава, а чуть в стороне стояла эта самая солома. Вероятно, она стояла на пригорке[100], потому что отсюда хорошо был виден горящий огнями город. Совсем близко, на переезде, один фонарь горел очень ярко и сильно бил в глаза.
Ваня неохотно шел ночевать. Когда позади[101] осталась последняя хата, он пожалел, что не поискал ночлега в городе. Но Рыжиков брел уверенно, заложив руки в карманы, посвистывая.
– Вот здесь, – сказал он. – Нагребем соломы, тепло будет. И к городу близко.
Ваня опустил ящик на землю, и не захотелось ему сразу ложиться спать. Он начал рассматривать город. Было очень приятно смотреть на него. Впереди огни рассыпались по широкой площади, и было их очень много. Они казались то насыпанными в беспорядке, то обнаруживались в их толпе определенные линии. Выходило так, как будто они играют. Подальше начинался ряд больших домов, и во всех домах все окна горели, только разными цветами: желтыми, зелеными, ярко-красными.
– Отчего это? – спросил Ваня. – То такие, а то такие… окна?
– Чего это? – спросил Рыжиков, наклонившись к соломе на земле.
– Окна отчего такие? Разные?
– А это у кого какая лампа. Колпаки такие, абажуры. Это женщины любят: то красный абажур, то зеленый.
– Это богатые?
– И богатые, и бедные. Это из бумаги можно сделать. Бывает, абажур такой висит, а больше ничего и нет. И взять нечего. Только голову морочат, и все…
– Украсть? – спросил Ваня.
– У нас не говорят «украсть», а говорят «взять». Ты еще не привык.
– Я не хочу привыкать. Я и завтра пойду чистить. А потом пойду к этому… к Первому мая.
– И там можно кое-что взять. Если умно.
– А зачем?
– Ну и глупый ты! Совсем глупый! Как это «зачем»?
– Пойти туда жить, а потом взять?
– А как же?
– А потом в тюрьму?
– Это пускай поймают!
– А Игоря поймали.
– Потому что дурак. На почту лазит. Да ему все равно ничего не будет: несовершеннолетний.
– А я буду работать. Все равно буду работать.
Рыжиков гребнул еще раз солому из стога, помял ее ногами, растянулся:[102]
– Кто работает, тот еще скорей пропадет. Думаешь работать – это легко?
– А зачем Советская власть? Зачем, если не работать?
– Понес – Советская власть. В Советской власти тоже понимать нужно. Ей, конечно, выгоднее, чтобы все работали, она и заставляет.
– Кому это выгоднее?
– Да Советской же власти!
– А кто это?
– Вот дурень: кому это, да кто? Советская власть и есть. Тот, кто начальник. Ему с ворами беспокойство, а лучше, чтобы все работали. Загнали на работу, и сиди там.
– А если бы все были воры, так тогда как? Тогда Советской власти не нужно?
– Отстань, ты, завел: власти, власти!
– Тогда один вор у другого украл бы, а потом тот у того, а потом еще третий, правда? Все покрали бы, и ничего не осталось бы. Правда?
– Ложись уже.
– Я ложусь.
Ваня под самым стогом, наклонившись, устраивал для себя гнездышко.
– А если все воры, так кто будет булки печь? А кто будет тогда ботинки чистить? Тоже воры, да? А они не захотят. Они скажут: пускай кто-нибудь булок напечет, а мы только красть будем. Правда?
Рыжиков заорал на Ваню:
– Спи! Пристал, как смола!
Ваня замолчал и долго думал о чем-то. Потом улегся уютнее. На небе горели звезды. Соломенные пряди казались черными, большими конструкциями. Уже засыпая, Ваня сказал вслух:
– Пойду к этому… к Первому мая.
* * *Проснулся Ваня рано, но день уже наступил. Солнце вставало за стогом, Ваня лежал в тени, ему стало холодно. Он вскочил, подымая за собой солому[103], приставшую к нему, и посмотрел на город. Город сейчас был другой. Кое-где горели ненужные уже фонари, и ярко светился тот самый фонарь возле переезда. Ваня засмотрелся на него, он казался уставшим, было его жалко: он, бедный, всю ночь светил.
Город был сейчас интереснее и сложнее, но уже не был таким красивым. Впрочем, это не имело особенного значения. Все-таки там было много домов и крыш, а дальше стояло высокое белое здание с колоннами. Вот где настоящий город, и нужно пойти туда посмотреть. Ваня заработает денег и пойдет… нет, поедет на трамвае. И, наверное, в городе есть кинотеатр. А сегодня он пойдет[104] на «свою» улицу. Ваня вспомнил вчерашнего молодого человека, который так обрадовался, что завелся чистильщик на этой улице. Наверное, там сейчас много народу хочет почистить ботинки. Хорошо, что есть лишняя коробка черной мази. Ване захотелось хорошенько рассмотреть эту коробку. Он наклонился к ящику, но ящика не было. Ногой Ваня откинул солому. Оглянулся. Только сейчас он заметил, что и Рыжикова тоже нет. Ваня обошел стог, вернулся на прежнее место и сказал растерянно:
– Украл… ящик…
Скучно посмотрел на город, еще раз оглянулся, прошептал:
– И мазь… И щетки…
Он прислонился к стогу, задумался. Вдруг вспомнил, полез в карман, пошарил в нем, вывернул:
– И десять рублей украл.
Ваня сделал несколько шагов в сторону дороги. Но остановился. Собственно говоря, в город идти было нечего. Ваня возвратился к стогу.
Он потянул к себе одну соломинку. Соломинка оказалась длинной и красивой, на ее конце был пустой, дрожащий колосок. Ваня провел пальцами по колоску. Между пальцами упала и разбрызгалась одна слеза.
9
Козлы
Целый месяц прошел после этих происшествий. В это время весенние дни успели вырасти и возмужать, они нарядились в богатые платья из зелени и цветов.
Рано утром милиционер, человек молодой, подтянутый и добросовестный, разбудил Игоря в приемнике и сказал ему:
– Трогаем, товарищ! Ты потом выспишься, в колонии, а мне до девяти нужно назад вернуться.
Игорю Чернявину не нравилось в приемнике: народ здесь был случайный, кормили плохо, было скучно.
Игорь быстро натянул на плечи свой пиджак, под которым уже имелась рубаха. Хотя это была короткая и бязевая рубаха, но Игорь умел ее желтоватый воротник кокетливо разбрасывать над воротником пиджака.
Дворники сухими метлами подметали улицы, но пыль еще не успела проснуться и неохотно взлетала над тротуарами. Утро стояло над городом ясное, прозрачное, здоровое. Игорю было приятно в такое утро идти «в новую жизнь».
Впрочем, Игорь не очень интересовался новой жизнью. Это у Полины Николаевны, в Комиссии по делам несовершеннолетних, за каждым словом: новая жизнь, новая жизнь! Игорь любил вообще жизнь, а какая там она, новая или старая, он не привык разбирать. Он никогда не задумывался ни над завтрашним днем, ни над вчерашним. Но сегодняшний день всегда привлекал его внимание, как еще не раскрытая страница, и ему нравилось не спеша перевертывать ее и любопытным глазом присматриваться к новым[105] рассказам. Эту вечно новую жизнь он приветствовал улыбкой своего большого рта и веселым ироническим взглядом. Сегодня это тем более было приятно, что в течение всего минувшего месяца ему пришлось переворачивать очень однообразные страницы, и он начал даже привыкать к этому однообразию.
В Комиссии по делам несовершеннолетних он и раньше бывал, и в этот раз не встретил там ничего существенно нового. Давно ему известная Полина Николаевна, женщина маленькая, остроносая, казавшаяся очень умной и доброй, как и раньше, с грустной вежливостью расспрашивала его о родителях, об учебе и вообще о том, как он дошел до такой жизни. Расспрашивая, она уже не заглядывала, как в прошлом году, в большой лист с заглавием: «Порядок опроса», но задавала все та же вопросы, что и в прошлом году. Игорь отвечал ей тоже вежливо. Он понимал, что Полина Николаевна честно обслуживает таких, как он, получает за это небольшое жалованье, что ей будет приятно, хотя изредка, поговорить с приличным человеком. Игорь Чернявин любил доставлять людям радость, поэтому и с Полиной Николаевной он разговаривал в джентельменском тоне, тем более что это было вовсе не трудно. Полина Николаевна постукивала тупым концом карандаша по столу и спрашивала:
– Ваш отец профессор?
– Да.
– В Ленинграде?
– Да.
– Почему вы не хотите к нему возвратиться?
– Мне не нравится его характер. Он – грубый, черствый, он изменяет моей маме, я с ним жить не могу.
– Вы с ним часто ссорились, крупно говорили?
– Нет. Я с ним не желаю разговаривать.
– Вы могли бы мать пожалеть, Игорь.
– Мне очень жаль, но мать не хочет от него уйти.
– Вы, Игорь, такой культурный мальчик, до каких же пор вы будете заниматься этими… приключениями?
– Полина Николаевна! Иначе не выходит. Уже два раза меня силой возвращают к отцу. Я все равно жить у него не буду.
– А если мы вас не отправим к отцу?
– Я надеюсь, что это будет очень хорошо.
– Вы бросите ваши фокусы?
– Я надеюсь.
– Почему вы надеетесь?
– А вот вы со мной поговорили.
Полина Николаевна посмотрела на него с благодарностью:
– Поможет ли вам это… мои разговоры?
– Я думаю, что ваши разговоры хорошо помогут.
– Что мне с вами делать, Игорь? Неужели только с вами одним и говорить? И другие ведь есть!
Полина Николаевна показывала карандашиком на дверь, за которой, в узком коридоре, другие мальчики ожидали своей очереди. На бледном остреньком личике Полины Николаевны, в беленьком узком кружевном воротничке, даже в ловком, юрком карандашике, которым она действовала, – во всем чувствовалось искреннее сожаление, что не может она взять Игоря за руку и повести по трудной дороге жизни. И Игорь понимал и сочувствовал: ей нужно заняться и другими сбившимися с пути объектами. Вероятно, это сочувствие довольно сильно выражалось на лице Игоря, потому что Полина Николаевна страдательно опустила глаза, и ее карандашик застучал по столу несколько нервно.