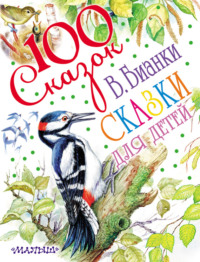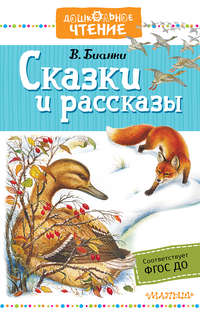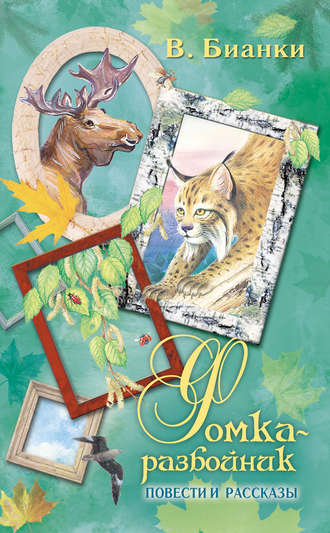
Полная версия
Фомка-разбойник (cборник)
Тот, кто сейчас выловит сундучок, отыщет эту никому не известную страну. Он переселит туда всех мальчишек из всех стран. Там будут они играть со зверями, петь с птицами, спать в цветах. А потом построят себе целый флот и будут иногда ездить к своим родителям.
А знаменитый путешественник, который один спасся от кораблекрушения и нашел эту страну, – путешественник как-нибудь прокормится пока цветами и кореньями, а потом может вернуться к себе на родину.
И третья чайка подлетела к сундучку.
Но ей не было места для посадки, и она стала медленно кружить над сундучком.
Сундучок был уже совсем близко от берега. Мальчик ясно видел один из его помятых медных углов, почему-то выше других торчащий из воды.
Мальчика уже била лихорадка нетерпения. Он больше не мог дожидаться, пока медлительные волны выкинут ему чудесный подарок моря. Он уже не мог мечтать: он должен был знать, что несет ему сундучок!
Мальчик прыгнул с обрыва и, обгоняя осыпающийся под ногами песок, побежал вниз, к воде. Встревоженные его бурным появлением обе сидевшие на сундучке чайки поспешно снялись и вместе с третьей полетели в море. Всполошились и их товарки на отмели. Поднялись без крика, всей стаей. И, широко разлетевшись в воздухе, потянули туда, где море теряло берега.
Мальчик вбежал по пояс в воду, дрожащими руками ухватил сундучок за два угла и потащил его к берегу.
На берегу оказалось, что сундучок не заперт.
Сердце больно било в виски мальчика, когда он откинул забухшую крышку. Сундучок был пуст.
– О, какая злая насмешка!
Но на внутренней стороне крышки мальчик увидел самого себя: там было вделано карманное зеркальце, и в холодном стекле живо отразились глубокие, страстные, удивленные глаза – глаза мечтателя, и все его розовое лицо, и обидные мальчишеские вихры на голове.
Издалека – со стороны открытого моря – донесся до него крик белых птиц, птиц широких водных просторов.
Издали крик чаек похож на насмешливый хохот.
________________________________
Человек открыл глаза.
Да, это было то самое место, где он мальчиком получил в подарок от моря матросский сундучок.
Подарок этот он бережно хранит до сих пор.
Каждое новое издание своих стихов – одну книжку – он кладет в заветный сундучок. Теперь сундучок полон почти доверху.
Он сумел наполнить простор мира своими мечтами, своими увлекательными стихами о тайнах жизни.
И когда открывает теперь крышку сундучка, – по-прежнему в зеркальце отражается то же лицо, те же удивленные, сияющие глаза, хоть они и постарели лет на сорок.
Но еще он видит и другое: множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и к кому обращал свои слова – самые заветные, самые дорогие сердцу слова. Люди – знакомые и незнакомые, – он отдал им себя целиком, все лучшее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и лучше. Пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны – это только половина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия – большие и маленькие – передать людям-братьям. Не в этом ли высшее на земле наслаждение?
«В конце концов, – думает поэт, вспоминая подаренный ему морем сундучок, – это было совсем не так глупо и зло. Лучшего подарка я никогда в жизни не получал».
Чайки хохочут вдали.
Поэт вслушивается в их крик и, сияя удивленными глазами, говорит вслух самому себе и всему миру:
– Но это ведь совсем не хохот! Это – фанфары, пронзительный и могучий зов. И он наполняет собою глухие без него просторы морей и поднебесья.
Двойная весна
Зимой в Ленинграде моим глазам и ушам работы мало. Но вот замечаю: на крыше подрались воробьи. И сразу удваивается мое внимание ко всему окружающему: ведь первая потасовка воробьев – это первый намек на весну. Вот будут еще и еще сигналы. Каждый новый птичий голос весной – подарок. И какое наслаждение отмечать эти новые голоса, пока они не слились в огромный общий хор – апофеоз природе и солнцу!
Положено и человеку радоваться весне. Но часто при этом думаешь: много ли еще таких радостных встреч предстоит тебе в жизни?
И раз мне пришла в голову лукавая мысль:
«А почему бы не вырвать у жизни хотя бы одну лишнюю весну? Ведь родина моя так велика. Ежегодно в разных концах ее бывает много разных весен.
Съезжу-ка на Кавказ. Конец февраля. Там как раз начинается весна. Южная весна коротка. Успею встретить ее и вернуться. Тут встречу вторую в году – нашу неторопливую северную весну».
Даже краска прилила к лицу, – точно задумал обмануть судьбу.
Как раз у меня и возможность была съездить куда-нибудь – отдохнуть между двумя работами.
Беру билет на поезд до Туапсе и через три дня, проснувшись утром, вижу: весна!
В Туапсе на улицах припекало, кой-где была уже пыль, хотя горы кругом сверкали снегом. В садах громко пинькали лиловогрудые красавцы зяблики.
Сразу видно, что они только что прибыли сюда: ни одной самочки в их холостяцких стаях. Более сильные самцы удрали вперед. Самочки прибудут позже.
Еще только первое марта, но я опаздываю. Скорей, скорей, вперед!
И вот прекрасный теплоход «Абхазия» уже развертывает передо мной неторопливо-величественную панораму Кавказского побережья и бесконечный простор моря.
Последняя ниточка, связывающая меня с родным севером, рвется. Я в другой стороне – прекрасной, желанной, но не родной.
На молу сидят, наподобие прусских орлов, подняв и растопырив крылья, большие черные птицы. Невиданные у нас птицы – бакланы. Смешные звери выскакивают из волн и падают назад в море. Таких не увидишь даже в ленинградском и московском зоопарках: дельфины. И даже чайки, белорозовой стаей провожающие теплоход, – не наши чайки: розовогрудые с красными носами и лапками – морские голубки.
Идет, идет теплоход, винтом отсчитывая время и пространство.
Вот уже Гагры.
Внушительная картина! Огромные горы. В расщелинах – завалы тяжелых мутных туч. На вершине – дикие, засыпанные снегом леса, пихтач – словно настоящая сибирская тайга. А на узкой полоске берега игрушечные красивые домики-ульи и перед ними – пальмы, кипарисы, эвкалипты.
Бесшумно течет вода, течет время.
Сухуми.
Стоит однажды побывать в этом милом городке – и уж будет, непременно будет тянуть побывать в нем еще раз.
Когда-то осенью я был в Сухуми. И, конечно, у меня, как и у всякого, кто здесь хоть немного пожил, остались друзья среди приветливого и гостеприимного местного населения.
Меня потянуло к ним. Я сошел в Сухуми.
Какая же может быть весна, когда не было зимы?
На улицах жарко. Пальто ни к чему.
Съездил в Алексеевское ущелье, побывал в саду ВИРа[2]. Всюду поют черные дрозды. Только вообразить себе эту блестяще-черную с золотым носом птицу в нашем северном лесу на белой березе!
И уже совсем ряженым кажется изумрудно-коричнево-голубой зимородок, сидячий на кусте над горным ручьем.
Каждый день прибывают стаи новых птиц и устраиваются здесь хозяйственно: они уже дома.
Зябличихи тоже тут. Вот-вот мужские и женские стайки распадутся, разобьются на парочки.
И вдруг – неожиданно – снег.
Самый настоящий северный снег. И холод. И вьюга.
Классическое «старожилы не запомнят»! Такой вдруг снег, такой неожиданный здесь холод в марте!
Снег не тает и на другой день. И вот в ресторане «Рица» появляется новое блюдо: жареные вальдшнепы.
И на третий день – снег и вальдшнепы.
Не узнаю города: слоновые ноги пальм стоят прямо в снегу. Отягощенные снегом, никнут к самой земле громадные листья бананов. На ободранных ветвях эвкалиптов – это австралийское дерево, как змея, ежегодно меняет кожу, – на австралийских деревьях сидят мокрые от снега вороны и простуженно каркают.
Ватага ребятишек, вооруженная палками, направляется в гору. Иду за ними.
Нам встречаются охотники, обвешанные вязанками битых вальдшнепов.
Вот поди же! А ведь у нас на севере эта чудесная сумеречная птица с большими трагическими глазами – желанная и всегда очень немногочисленная добыча охотников. Она улетает от нас с первой порошей.
Здесь она живет зимой на склонах гор в буковых и других широколиственных лесах. Ей нужно глубоко в мягкую землю втыкать свой длинный клюв, чтобы нащупать им съедобную живность. Снег для нее – смерть.
Горы засыпал глубокий снег. Вальдшнепы спустились вниз, прямо на улицы. Они истощены, обессилены.
Мальчишки бьют их палками.
Мне удалось спасти только одного вальдшнепа. Он не мог взлететь. Я схватил его руками. Рассматривая его, заметил, что на левой ноге вместо среднего, самого длинного пальца, у него культяпочка. Это тронуло меня.
Принес к себе. Пустил в садик. Тут снег уж почти весь сошел.
Вальдшнеп прожил в садике три дня. Потом – ночью – улетел.
Только сошел снег – и в Сухуми сразу настало лето.
Здешние зяблики уже разбились на пары и свили гнезда. Весна кончилась.
Пора мне назад домой.
________________________________
В Ленинграде еще бушевала волчья вьюга.
В деревню я выбрался только в конце апреля. Пригласил с собой приятеля-южанина, охотника: в наших лесах весной хороша тяга вальдшнепов, есть чем похвастать.
Попав в родной лес, я почувствовал себя так, будто обежал земной шар с такой быстротой, что встретил самого себя лицом к лицу.
Опять на деревьях пинькали стаи зябликов. Они здесь еще не разбились на пары. Вспыхнув рыжим надхвостьем, поднялся в кустах вальдшнеп. Повторялось все то, что я видел недавно на другом конце страны.
Я стал у одной опушки, приятель мой – у другой, шагах в двухстах от меня.
Солнце зашло, и птицы примолкли.
Теперь должен протянуть первый вальдшнеп.
Но он не тянул.
«Еще слишком светло, – утешет я себя. – Небо чистое. Сегодня тяга начнется поздно».
Глубокий душевный трепет объемлет душу весной в лесу в эти часы. Нагая ночь севера – белая ночь – гонит сон от глаз. Таинственно оживают в ней белые тела берез, серебристые стволы осин. Сухопарые колючие сосны протягивают к ним свои колючие руки. И таинственно темнеют в глубине неодетого леса дремучие ели. Призрак неутоленной любви поднимается тогда от черной душной земли к мерцающему бледными звездами небу.
Птицы не спят в эти ночи. Молчанием проводив уходящее на покой солнце, они скоро не выдерживают и снова заливаются песнями. Взлетев на тонкие вершины елок, поют наши серенькие дрозды-белобровки и певчие. Цвирикает в кустах черноокая зарянка. И хриплым от страсти голосом неожиданно начинает кричать в ночи только что прилетевшая на родину кукушка.
Напрасно, замолкнув, ждет она ответа на свой призыв: веселого, звонкого хохота самочки. Не прилетели еще кукушки-самки. Они прибудут, когда лес оденется листвой.
Колдуя, чуффыкает, звонко бормочет где-то тетерев-косач.
Среди всех этих чудесных звуков слух мой ищет одного – самого желанного: негромкого, хрипловатого «хорканья» и «цирканья» тянущего вальдшнепа. Переждав с четверть часа после захода солнца, вальдшнепы-самцы поднимаются с земли, беспокойно снуют над лесом. Они разыскивают, высматривают своих самок. Это и называется «тягой».
Я весь напрягся в ожидании первого хорканья. Вспоминалось, как в прошлые весны простаивал белые вечера на этом же месте и над головой у меня пролетало десять – пятнадцать красивых долгоносиков, десять – пятнадцать раз вскидывал я к плечу ружье и стрелял, волнуясь, боясь упустить короткий миг возможного попадания.
Но в сердце уже закрадывалась тревога: что-то случилось этой весной. Не будет нынче той обильной тяги. Что-то уж слишком долго она не начинается.
И тут вдруг – как всегда, когда стоишь на тяге, – неожиданно, хотя все мысли заняты ожиданием этого звука, – донеслось откуда-то легкое «ципит, ципит, хорр, хорр!».
Я резко повернулся в ту сторону. И увидел: над опушкой, где стоял мой приятель, на фоне зеленоватой зари, толчками двигаясь в воздухе, неслась птица.
Странным образам она летела – вперед длинным опущенным хвостом. И у нее не было головы.
Мгновенная иллюзия рассеялась: то, что представлялось мне хвостом птицы, был длинный, внимательно опущенный книзу клюв вальдшнепа.
И я увидел, как внезапно вальдшнеп собрался в комочек – уже нельзя было различить, где у него хвост, где голова, – и безжизненно упал вниз.
Тут сразу донесся до меня и звук выстрела.
– Ну, – я вздохнул с облегчением, – один есть! Теперь начнется.
Я радовался, что приятель уж не вернется домой «попом» – без дичи.
Но ничего не «началось». Лес потемнел, в нем слились очертания отдельных деревьев. Прошел час. А вальдшнепы все не тянули.
Дальше ждать не имело смысла. Я крикнул приятелю. Он подошел.
– Хороша же ваша хваленая тяга, – сказал он сердито. – Один только и протянул. Вот он. На Кавказе зимой я бил их десятками.
Приятель передал мне убитого вальдшнепа.
Разглядывая птицу, я заметил, что на левой ноге у нее вместо среднего, самого длинного пальца, – культяпочка.
Меня как током кольнуло.
Я, конечно, не могу утверждать, что это тот самый вальдшнеп, которому я недавно спас жизнь за тысячи километров отсюда – в Сухуми. Но только я вспомнил, что наши северные вальдшнепы летят зимовать на Кавказ и смешиваются там с кавказскими.
Я вспомнил сухумских охотников, обвешанных вязанками вальдшнепов.
Быть может, именно из моего северного леса вальдшнепы – эти птицы с большими трагическими глазами, – собравшись в стаю, зимовали в широколиственных бесснежных лесах над городом Сухуми. Возможно. Очень возможно.
И я стал думать какое огромное у нас слово – Родина! Какую часть земного шара она обнимает! И все же юг и север, восток и запад – одно хозяйство.
Вот птицы: уничтожь стаю их зимой на юге – весной останешься без охоты на севере.
О Аулей, Аулей, Аулей!
К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья.
Как огромный синий-синий самоцвет, засияла на солнце освобожденная вода. И утром, и днем, и вечером – когда ни взглянешь, – тут сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.
В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Все это были нырки: гоголя, чёрнети и спешащие на далекий север морянки-аулейки – черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами.
Впрочем, морянок-то я различал и ночью по их крику, совсем не похожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя – Аулей:
– О Аулей, Аулей, Аулей!
Кряквы, шилохвосты, свиязи и другие мелководные утки полыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.
Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей неописанной красотой.
Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слыхал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы – какие-то большие, неведомые, сказочные трубы – клики лебедей действительно напоминают, хоть не слыхал я и сказочных труб.
Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей избушки.
Я спал не раздеваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.
Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.
«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», – подумал я.
И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, – верно, хочет сесть на озере.
В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек и вспыхнуло белое облачко дыма.
Я не поверил своим глазам – быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том берегу маленькую фигуру охотника.
Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загребая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.
«Дорого тебе станет этот выстрел!» – в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.
Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убийство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу.
Уже мало остается на земле таких глухих мест, обширных озерных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха выводят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птенцов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.
Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно раненое, крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун – самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов – живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею – всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.
Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера.
Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.
И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.
– Кринг-клю-у! – кричал покинутый лебедь звенящим, хрипловатым голосом.
В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да, отчаянный зов.
– Кринг-клинг-кланг-клю-у! – издалека отозвалась ему стая.
– Кринг-клю-у! – отчаянно звал раненый.
И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, пошел на посадку. Раненый замолчал.
Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спускались на воду, поднимали две стены брызг и некоторое время с разгона двигались по воде.
Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.
Не хочется рассказывать, что было дальше. Все и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, – со дна, мелкого дна.
Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.
Раненый опять закричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.
Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.
Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно.
Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещавший, крошащийся под ногами лед было рискованно.
Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома – из избушки на высоком берегу озера.
Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.
Я вернулся домой через два дня утром.
Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.
В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи – легкие цепочки лисьих следов.
Может быть, ночью лебедь вышел на лед – хотел идти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, – не знаю.
Лебедя не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:
– О Аулей, Аулей, Аулей!
Стаи снимались с озера, летели на север – к своим гнездовьям.
С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.
Морской чертенок
1. В борьбе со стихиями
Сам теперь не пойму, как я отважился на эту отчаянную поездку. Один!
Море было грозно, вдали по нему ходили злые барашки. Едва только я отшвартовался, снял конец с прикола, – волны кинули лодку и, ударив ее бортом о пристань, погнали к берегу. С большим трудом я успел поставить в уключины весла и направить лодку носом в море. И тут началась борьба.
Две стихии – море и ветер, – казалось, сговорились, чтобы не дать мне достигнуть цели и погубить меня. Я изо всех сил наваливался на весла, волны рвали их у меня из рук, а ветер, накидываясь то с одной, то с другой стороны, старался повернуть лодку назад к берегу и, поставив бортом к волне, опрокинуть ее. Очень скоро мои ладони покрылись мозолями. Но я почти не чувствовал боли: все мое внимание было поглощено тем, чтобы держать правильный курс.
Как я жалел теперь, что не подговорил с собой кого-нибудь из товарищей! Будь у меня рулевой, он мог бы, сидя на корме, держать руль по курсу, и мне оставалось бы только справляться с веслами. А одному приходилось каждую минуту оборачиваться то через одно, то через другое плечо – смотреть, прямо ли к цели идет моя лодка.
Целью моего плавания были запретные Пять Братьев. Так назывались пять скал, дружной грудой возвышавшиеся над волнами невдалеке от берега.
Я сказал – «невдалеке». Но все на свете относительно. Преодолеть это расстояние при тихой погоде было бы не трудно, а сейчас оно казалось огромным.
Несмотря на ветер, пот лил с меня градом. И вдруг я почувствовал облегчение: лодка подошла под прикрытие Пяти Братьев, и тут – в заветёрках – сразу перестало рвать ее из стороны в сторону.
Однако пристать к скалам с береговой стороны не было никакой возможности. Надо обогнуть их с запада: войти в проход между двумя старшими Братьями – самыми большими из камней. Это я знал, потому что мне уже дважды пришлось побывать на Пяти Братьях. Я знал, что ворота – очень опасное место: прибой там бьет с удесятеренной силой и может в щепки разбить лодку, бросив ее на камни.
Придержав лодку на месте, я немного отдохнул: надо было набраться сил для последнего, самого рискованного перехода.
Я оглядел берег. На нем никого не было. Да и кто будет выходить в море в такую рань и в такой ветер?
Наконец я собрался с духом и направил лодку в каменные ворота. Сильное течение разом загородило мне путь. Мне показалось даже, что лодку тащит назад.
Оборачиваться уже не было времени, но, скосив глаза, я по камню увидал, что потихоньку ползу вперед.
Это придало мне силы. Я налег на весла – и как-то совсем неожиданно легко очутился по другую сторону каменных ворот.
Резко повернув лодку, я без приключений ввел ее в узкую гавань между двумя Братьями – одним из старших и младшим.
Тут было тихо. Я кинул весла на дно лодки, перешел на нос, взял кошку – четырехлапый якорь – и забросил ее на старшего Брата. Подергал – зацепилась крепко.
Опасный переход кончен.
Теперь можно собраться с мыслями и приниматься за дело.
2. Из темной пучины
Отдохнув, я разложил в лодке все свои запасы и нацепил на крючок целый клубок червей. Мелкая добыча, что берет на одного червя, меня не интересовала: не за тем я ехал сюда, рискуя жизнью.
Я забросил удочку. Поплавок из сухой камышины вынырнул и лег спокойно. Тогда все исчезло – берег, небо, лодка; осталась только эта камышинка да кусочек моря, на котором она покоилась. Я смотрел на нее не отрывая глаз.
Смотрел и думал о том, что сегодня ожидает меня необыкновенная добыча. Ведь не на простую ловлю я выехал, не с берега, в мелкую воду, закинул удочку. Я – в море, на скалах. Кто знает, какая тут глубина? И что таит в себе пучина, какие живут в ней огромные, невиданные рыбы? Может быть, сегодня ждет меня счастье, и я вытащу какую-нибудь рыбину, у которой даже названия нет, потому что никто еще не ловил таких. Может быть, тут, под скалами, стоит сейчас целая стая таких рыб, и как начнут они клевать одна за другой– только поспевай вытаскивать! Я полную лодку набью добычей.
Поплавок по-прежнему спокойно лежал на воде.
Следуя мысленно за лесой, ушедшей в темную воду, я думал, какой невообразимой глубины бывают моря и океаны! Целые километры воды под тобой. Неизведанная глубина!
И мне представился крошечный-крошечный человечек на скорлупке-лодочке. Под ним бездна – пучина морская. И над ним бездна – воздушный океан, межзвездные неизмеримые пространства…