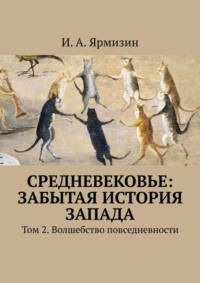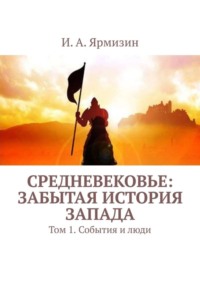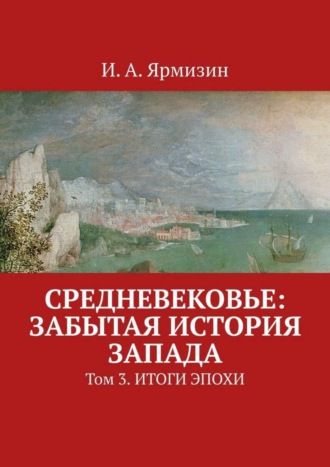
Полная версия
Средневековье: забытая история Запада. Том 3. Итоги эпохи
Начиная с XIII – XIV века именно Университеты становятся «родильным домом» для невиданного в мировой истории явления, – науки. Отрабатываются основные принципы, методы, появляется эксперимент и т. д. Великая мудрость встречалась по всей Евразии: в Индии, Китае, Японии, мусульманском мире и т. д. Но ничего подобного европейской науке, без которой невозможно представить современный мир, так нигде и не возникло. И ничего подобного европейским университетам. Между тем, ученый в общественной иерархии возносится на невиданную высоту. Более того, его, доктора (наук) уравнивают в правах с рыцарем. Маршал Бусико в своем «Житии» говорит о двух столпах: рыцарстве и учености. Иногда такое приравнивание происходит в самом буквальном смысле: в 1533 году покровитель Леонардо да Винчи король Франциск I возводит ученых в рыцарское звание.
Такое почитание не случайно. Решения, которые принимались в университетских стенах, подчас влияли на судьбы не только стран и народов, но и всей человеческой цивилизации. Одним из них была, например, постепенная «декриминализация» ссудного процента и ростовщичества. Как только «добро» от высшей экспертной инстанции было получено, на рынке ценных бумаг начался подлинный бум. Азарт, охвативший общество, был столь велик, что свои облигации эмитировал даже «христианнейший» король Франции. А долгие дискуссии юристов и теологов о таких, казалось бы абстрактных понятиях как «канонический процент» и некоторых других, во второй половине XIV – начале XV вв. дали «зеленый свет» формированию банковской системы, ставшей основой современного капитализма.
Подобно тому как в конце античности появились монастыри, ставшие самым ранним провозвестником восхода новой, пока еще неведомой цивилизации средневековья, так и средневековье в конце эпохи порождает университеты, ставшие, в конечном счете, не только одним из его могильщиков, но и оказавших большое влияние на становление совершенно иной, технологической цивилизации.
Христианская мысль и рождение новой рациональности
Они сражались за христианский мир, и эта битва по накалу и значимости не уступала кровавым схваткам с сарацинами где-то на окраинах Ойкумены. Они доказали интеллектуальную и духовную состоятельность Европы в заочных дискуссиях с выдающимися мыслителями мусульманского Востока. Они предотвратили опасность культурной ассимиляции со стороны исламской цивилизации, как это нередко бывает, когда высокая культура поглощает более примитивную.
В награду от потомков они получили глухое непонимание, ненависть и забвение. Сначала поношение и уничтожение со стороны «Просветителей», как мракобесов, лжецов и гонителей свободной мысли, а затем на века погружение в беспамятство.
Веками схоластов в лучшем случае полагали идиотами, подсчитывающих ангелов, танцующих на острие иглы. Даже у Гегеля в фундаментальной «Истории философии» им отведено всего несколько страничек. Но в начале XX века ситуация удивительным образом изменилась. Ученые почти случайно сдунули пыль с заплесневелых фолиантов и неожиданно для себя открыли поразительный мир, предвосхитивший современность и даже ставший ее началом, подлинным истоком. Мир Дунса Скотта, Оккама, Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского и других давно забытых гениев был извлечен из тиши библиотек и заиграл всеми красками. В нем нашли утонченную протоматематическую логику, теорию языка, семиотику и многое, многое другое. Удивительным образом еще в 70-х гг. XIII века философы Сорбонны, например, Сигер Брабантский без всякой оглядки на религиозные доктрины заявляли, что высшее счастье человека состоит в созерцании истины естественным разумом. Что рациональность требует от нас признание вечности мира, а не сотворения его. Ну и, конечно, сама суть схоластики – умение обосновать свою позицию, создать непротиворечивую систему доказательств, – была и остается актуальной во все времена. Нередко современные исследователи именно здесь, в Сорбонне 70-х гг. XIII века, видят зарождение философии Нового времени.
Многие слова, которые мы сейчас используем в обиходе, были изобретены в те годы схоластами для ведения дискуссий. Например, понятие реальности, которое ввел Дунс Скотт, пытаясь разделить ее и иллюзорный мир. Схоласты разделили реальность и наше восприятие ее, и поставили вопрос о том, как «настроить» наши инструменты познания, чтобы они давали минимальное искажение?
Современные ученые занимались тем же самым весь ХХ век. Они пытались поймать ускользающую реальность. Но безуспешно. Так что в квантовой механике возобладал принцип «Заткнись и считай». Т.е. даже и не пробуй объяснять что-то, просто считай по формуле. Увы, нынешние исследователи, вооруженные передовыми достижениями науки и техники, так и не смогли превзойти средневековых мыслителей.
Великие идеи схоластов, спустя века, изменяли мир. Мы все еще слишком слабы и неопытны, чтобы рассмотреть в великих потрясениях нового времени эти неприметные истоки. Но все же вот лишь некоторые из них. Оккам отвергает метафизическую сущность идей, оставляя им лишь роль абстракций ума, и заявляет о приоритете воли перед разумом. Он говорит: «если Бог прикажет нам ненавидеть себя, мы должны поступить так, вопреки нашему разуму». Также воля Бога важнее его разума. Именно эта идея – торжества разума и навязывание идей посредством воли – стала одной из ключевых во время Просвещения. Хотя папа римский еще в XIV веке понял всю опасность рассуждений Оккама, и тому пришлось бежать под покровительство императора Людвига Баварского.
Далее Оккам, к примеру, говорит, что жесткая причинность существует лишь в логике и математике, а сам мир – гипотетичен и вероятностен. Сегодня мы эти утверждения можем рассматривать как прозрения эпохи квантовой механики. Британский гений предвосхитил реалии ХХ века. Да и вывод, который он делает из этой «гипотетичности», поистине революционный: мы не можем вывести мир из абстракций, логически (в силу его гипотетичности), значит, необходимы эмпирические исследования.
Или другой пример. Вот вышеупомянутая «троица» – Скотт, Оккам, Фома – рассуждают о контингентности. Это понятие можно перевести как не-необходимость (или необязательность). Т.е. нечто может быть, а может и не быть. Его появление и существование не обязательно. Иными словами, вовсе не все на свете заранее предопределено волей Божией. Сама эта воля во многих своих проявлениях рациональна, а значит, познаваема и, более того, должна быть познана. После длинной цепочки рассуждений следует вывод, что мир основан на свободной воле Творца, а каждый человек – свободный творец в своей узкой сфере. Это во-первых, а во-вторых, рассуждения приводят к тому, что мир – значительно «больше», чем понятия, он не выводим из них. Часть мира мы можем познать при помощи понятий и логики, а часть – нет, для этого требуется опыт, т.е. изучение природы. Согласно самим принципам философии Оккама и Дунса Скотта, чтобы доподлинно знать, надо не только рассуждать, но и исследовать.
О том же еще в «Божественной комедии» Беатриче говорит Данте:
Тебе бы опыт сделать не мешало;
Ведь он для вас – источник всех наук.
И далее она начинает описывать эксперимент, который необходимо поставить!
Данте, Дунс Скотт, Оккам… Пожалуй, последний, кого в этом ряду мы упомянем, был Фрэнсис Бэкон. Хотя он немного хронологически выбивается из рассматриваемого периода, но совсем чуть-чуть. В нем, как ни в ком другом, сошлось средневековье и Новое время. В своем произведении «Новая Атлантида» он требует не много, не мало, а «преобразования мира». Чудовищная ересь, немыслимая в прежние века. Однако, основной силой преобразований полагается… магия и астрология. Для осуществления своего плана Бэкон требует создания техники, – революционная мысль. Но техника мыслится как набор магических инструментов, позволяющих проникнуть вглубь материи. Иными словами, магическими практиками воздействовать на материю, чтобы в корне изменить ее. Создать с помощью науки «естественное чудо» и трансформировать весь мир. Грандиозный план.
Итак, разные философы, разными путями приходят к одному: все более настойчивому требованию изучения природы. В трудах Фомы Аквинского фраза: «Все наше познание начинается с чувственного опыта» повторяется 1500 раз (!). Как следствие эти «абстрактных» высказываний – идеи, подробные описания множества технических изобретений далекого будущего, подобно тем, которые не всегда с достаточным на то основанием приписываются Леонардо да Винчи, мы находим у схоластов Оксфорда и других университетов.
Вот так, казалось бы отвлеченные рассуждения постепенно приводят к необходимости метода и эксперимента. Возникает понятие гипотетического знания и гипотезы как примерной конструкции реальности, в основе которой – непостижимая божественная природа. Так и только так рождается новая логика, философия, рождается современная наука. Только благодаря схоластам и европейским Университетам, и больше никому, нигде и никогда, несмотря на всю великую мудрость Востока. Так в дискуссиях в маленьких подслеповатых учебных аудиториях, благодаря напряженным размышлениям в тихих кельях, освещенных лишь тусклым пламенем свечи, продумывались важнейшие понятия и принципы современного общества и государства, основы новой цивилизации.
Глава 3. Готические соборы

Собор в Шартре
Готический собор – это молитва в камне. Одно из самых прекрасных творений рук человеческих. Рвущееся в небо здание неземной красоты утверждает идею бесплотного единения с Богом, хотя скульптуры в соборе могут быть исключительно земными. Его главная задача – дать возможность каждому человеку увидеть собственными глазами воплощение Бога, всю библейскую историю. Увидеть, чтобы уверовать. Ведь собор – это еще и Библия для неграмотных. Здесь можно найти царей, святых, ангелов, грешников, «четырех мудрейших иудеев», «четырех доблестнейших язычников», «четырех благочестивейших христиан», – всю историю человечества от грехопадения до Страшного суда.
Мало кто не бывает охвачен его великолепием, грандиозностью и дерзновением замысла в попытке дотянуться до Божественного. Каменный океан, в невероятной легкости, брызгами пены взметнулся ввысь, и из него вышла Божественная Афродита. Счастье созерцания этих Творений омрачает лишь мысль о том, что мы их уже почти не понимаем. Для человека, живущего одновременно в двух измерениях, земном и трансцендентном, собор был порталом для перехода в другой мир. И в этом его важнейшая роль и сакральный смысл. Но этот зашифрованный смысл, оставленный великими предками, вряд ли когда-нибудь будет нам полностью доступен.
Однако, собор – это еще и, в переводе, дом. Дом епископа. Где он учит прихожан Истине. А слово «готика» впервые появляется во времена Возрождения, у ученика Микеланджело Вазари. Он – родоначальник современного искусствоведения, и в одном из своих произведений, после рассуждений об античной архитектуре, сетует на варваров, которые «все смели», а взамен понастроили чего-то в «манере готика» (манерой в то время называли «стиль»). Позже, это слово, равно как и восприятие стиля, сетование на его «отсталость» и «варварство» очень понравились французским просветителям, и с их легкой руки дожило без особых изменений до сего дня. Так что слово «готический» происходит от названия племени – «готы». Просветителям казалось, что тем самым они унижают соборы, эти прекрасные творения рук человеческих, ставя перед ними синоним слова «варвар».
Но готические храмы были еще и святилищем Традиции, Знания, Искусства, где они хранились, подобно книгам в библиотеке. Это и усыпальницы сильных мира сего, которые ощущали себя в безопасности рядом с возносящейся к небесам молитвой, ибо, как известно, чем ближе к могиле совершается служба, тем больше она содействует спасению души.
Мертвые владыки, некогда царствовавшие над миром. А рядом калеки, инвалиды, «дно» общества. Живые, но обездоленные, они приходили вымолить у Бога избавление от страданий. Многие так и жили в соборе вплоть до выздоровления или смерти. Прямо у входа они могли получить консультации доктора. Это тем более удобно, что, скажем, у центрального портала Нотр Дам де Пари регулярно проходили собрания Медицинского факультета. Мертвые короли и живые нищие рядом алкали спасения, взывая к Богу.
А вокруг храма маленькими и кривыми переулками теснился город. В отличие от современных Лондона, Шартра или Парижа, он был грязен, зловонен и прост до примитивности, но над всем этим неприглядным бытом в небесной чистоте парило Творение. Творение пусть еще не Божественное, но уже и не совсем человеческое, – Собор. На нем сплоченные ряды земных и небесных жителей – пророков, патриархов, ангелов и святых – пели осанну Матери и Сыну. Он возвышался над греховностью города, был его гордостью, защитой и прибежищем.
Средневековый собор был поистине всенароден. Весь город участвовал в грандиозной стройке, стремясь украсить его «со всей внутренней чистотой, со всем внешним величием». Часто, подъезжая к городу, можно было лицезреть длинную вереницу людей, каждый из которых нес большой камень для будущего храма Божьего. Время от времени процессия останавливалась для публичной исповеди, а после покаяния ее участники яростно бичевали друг друга.
Стены Творения были свидетелями будничных богослужений и великолепных праздничных литургических церемоний, торжественных процессий и всенародных празднеств, религиозных театрализованных спектаклей. В нем проводились цеховые собрания ремесленников и городских коммун. Он был предметом гордости горожан; свидетельство тому – гордый профиль со шпилем, вознесшемся к небесам, выгравированный, наверное, на каждой второй печати, которыми купцы или ремесленники скрепляли свои контракты.
Просторные нефы Собора были открыты всем, без различия положения и состояния. А под высоко парящими сводами могло собраться все население средневекового города.
И величественный собор, и маленькие скромные приходские церкви, стягивали к себе нити всего жизненного пути средневекового человека: совершавшиеся в них обряды и таинства определяли каждодневный ритм бытия, именно они заключали в себе молитвы живых и надгробные надписи об усопших.
Начало: Аббатство Сен-Дени
Я ненавижу свет
Однообразных звезд,
Здравствуй, мой давний бред,
Башни стрельчатый рост!
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглой рань.
О. Мандельштам
Как ни странно, но мы довольно точно можем назвать дату и место рождения готического искусства. Оно ведет свое начало с построения аббатом Сугерием в 1137—1144 гг. церкви при монастыре Сен-Дени. Монастырь этот играет очень важную роль в истории Франции. Основанный еще в VII веке знаменитым королем франков Дагобертом, на протяжении многих веков он служил французским монархам и школой, и местом встречи с Богом, и последним пристанищем.
Сам Сугерий был незаурядной личностью. Выходец из самых низов, о родителях которого известно лишь, что они пребывали всю жизнь в крайней нужде, он не только стал руководителем одного из самых богатых и могущественных монастырей, но и человеком, которому король Людовик VII, отправившийся в крестовый поход, доверил всю страну. Так безвестный бедняк стал Регентом Франции.
Главная идея, которую он воплощал в главном творении своей жизни – соборе – преображение видимого в невидимое. Ведь Бог есть свет. А каждое существо, в том числе человек, – часть изначального несотворенного света. В свете опыт чувственный и опыт мистический живут нераздельно. Свет низвергается из Бога, подобно водопаду. Из его сияния возникает мир. Он связывает воедино все Творение. А поскольку, как известно и нам из курса физики, абсолютно все наделено способностью отражать свет, то он, отраженный, опять частично, по ступеням возвращается к Творцу. Бог, абсолютный свет, присутствует в каждом творении, чем ближе оно находится, тем светлее (ср., например, мы говорим: озарение. Только что было темно и непонятно, как вдруг словно свет пролился, и все стало ясно). То есть всякий свет есть отражение Бога.
Поэтому в готической архитектуре идея света является ключевой. В аббатстве Сен-Дени свет заходящего Солнца проникает внутрь через окна трех порталов. Над ними на западном фасаде сияет украшенная витражами роза. Она освещает три верхние часовни в честь Девы Марии, архангела Михаила и архангельского воинства. А вот роза на северном фасаде никогда не видела света солнца, а потому олицетворяет души, ищущие Свет в царстве Тьмы. Такую идею подал еще Людовик IX, после чего она стала общепринятой.
В восточной части, где в своем ослепительном блеске восходит Солнце, были полностью убраны стены, получилась часовня, расположенная полукругом, и вся церковь воссияла необыкновенным светом, льющимся с небес, от Создателя без преград через огромные окна с витражами. Он как бы омывает молящихся и епископа, собравшихся для обращения к Богу в полукруглой часовне. Стены исчезают, и вдруг оказывается, что не осталось ничего, кроме человека и света. Более того, свет объединяет прихожан. Как писали в день торжественного освящения церкви местные хронисты, месса была отслужена «столь празднично, с такой радостью и охватившим всех чувством единства, что дивное пение, возносившееся с хоров, своей стройностью и гармонией напоминало симфонию ангельскую, а не человеческую».
Сияние лилось беспрепятственно, текущие со всех сторон «ручейки» сливались друг с другом, все увеличиваясь в размерах, и, наконец, превращались в океан. Этот океан света врывался в собор, захлестывал его, отчего тот полностью утрачивал свою материальность. Для этого убирались стены, любые препятствия, включая амвон, на пути света. Великий мыслитель раннего Средневековья Иоанн Скотт Эриугена писал: «Как воздух, освещенный солнцем, кажется только светом и более ничем не потому, что он утратил свое естество, но потому, что свет преобладает в нем, так человек, соединяясь с Богом, может быть назван Богом во всех отношениях не потому, что он утратил человеческую природу, но потому, что приобщился к Божеству настолько, что в нем виден только Бог».
Тоже относится и к собору. Через Свет он приобщался к Божеству настолько, что в нем оставался только Бог, а сам собор, все эти нефы, аркбутаны и прочие конструктивные элементы, о которых так любят порассуждать современные историки искусства, исчезали. Но здесь надо не рассуждать, а восхищаться. Вот что пишет профессор архитектуры Массачусетского Технологического Института Джон Ошендорф, исследовавший собор с помощью специальной компьютерной программы: «для понимания архитектурных особенностей готических соборов мы провели поиск линий внутреннего сжатия, передающих вес сооружения вплоть до его фундамента. Если эти линии выходят за пределы сводов и стен готического собора, то он просто не может существовать. Что удивительно, так это баланс на грани чуда, который линии внутреннего сжатия соблюдают. Именно их пребывание у пороговых границ, но еще в зоне безопасности, и дает это невероятное ощущение преодоления законов материи и земного тяготения. Сложно отделаться от впечатления, что средневековыми архитекторами руководил сам Создатель».
Поэтика света увлекала души от обычного материального света к свету духовному, к тому, что не поддается описанию словами. Между этими двумя мирами был ряд посредников. Один из них – драгоценные камни. У каждого из них было особое, нравственное значение, связанное с добродетелями. Их представляли сверкающими совершенным светом в величественных стенах небесного Иерусалима. Не случайно король Людовик VII вместе с первым камнем в основание Собора заложил и несколько драгоценных камней. А монахи в этот момент затянули псалом «Стены твои из драгоценных камней».
По замыслу, внутри храма блеск сокровищ должен был отражать потоки света, сквозь множество окон изливающегося на хоры. Христианской литургией и мистическим восприятием мира, а вовсе не алчностью и тягой к роскоши объясняется такая насыщенность готических соборов золотом и серебром, драгоценными камнями и хрусталем, – словом всем тем, что преломляет и отражает свет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.