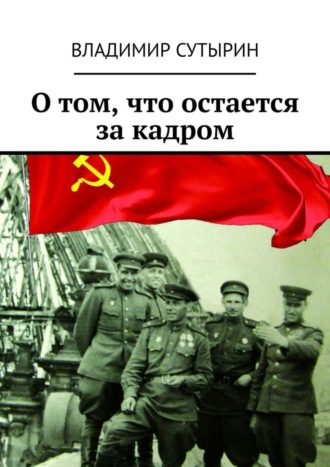
Полная версия
О том, что остается за кадром
А тем временем людские резервы для мобилизации на фронт стали истощаться и в 1942 г. был издан секретный циркуляр, предписывающий осуществлять излечение больных и раненых в сокращенные сроки. Теперь пребывание на излечении не должно было превышать среднего показателя в 21,3 суток. За превышение оного врачам грозил выговор… Вместе с этим, недолеченная дизентерия грозила рецидивом и выписанный ранее срока больной, вернувшись в воинскую часть, сам становился источником заразы. Госпитальные врачи, беря на себя ответственность, действовали как предписывает медицина – работая как бы между молотом приказа и наковальней обстоятельств. Недаром говорят, что не нарушишь инструкций – не совершишь подвига…
Отец выписался в марте. В районе Погостья – в направлении на Любань – всё еще шли бои, но его не вернули в 11-ю стрелковую, а оставили в резерве политуправления Волховского фронта.
Фронт этот был учрежден 17 декабря 1941 г. в результате успешной Тихвинской стратегической операции, что не только освободила от немцев железнодорожную ветку Тихвин – Волхов, по которой шло снабжение Ленинграда и эвакуация гражданского населения, но и позволила выровнять здесь линию фронта, установившуюся по реке Волхов, откуда и название нового фронта. Командовать им стал представитель Ставки на Северо-Западном направлении генерал армии К. А. Мерецков, удачно осуществивший Тихвинскую операцию.
Однако дальше этого рубежа нашим войскам продвинуться не удалось. Вошедшая в прорыв 2-я ударная армия, что по замыслу должна была выйти к станции Любань Октябрьской железной дороги (направление Москва – Ленинград) и соединиться с наступавшей от Погостья 54-й армией Ленинградского фронта, взяв гитлеровцев в кольцо, завязла в снегах, уткнулась в сильное немецкое сопротивление и сама оказалась чуть ли не в окружении.
Требование Ставки продолжать наступление до достижения успеха видимо и вызвало у командующего Ленинградским фронтом генерала М. С. Хозина реакцию самозащиты: неуспех наступления он объяснил тем, что якобы два фронта не могут договориться о совместных действиях и потому для успешного завершения операции нужно единоначалие.
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин с вниманием относился к мнению своих военачальников, поскольку, как он полагал, реальное положение дел на местах им виднее. И если Хозин считает, что для пользы дела нужно соединить руководство силами двух фронтов в одних руках, то надо так и сделать. 23 апреля 1942 г. решением Ставки Волховский фронт был ликвидирован и продолжение операции поручили войскам объединенного Ленинградского фронта. Генерала Мерецкова откомандировали на Брянский фронт.
Однако это нововведение привело еще к большей неуправляемости, поскольку руководство Ленинградского фонта теперь находилось с внешней стороны блокады. В итоге 2-я ударная армия, вошедшая в прорыв и двигавшаяся навстречу 54-й армии, попала в мешок. Чуть больше месяца понадобилось Ставке, чтобы понять свою ошибку и восстановить прежнее статус-кво в управлении войсками на Северо-Западном направлении.
Ложная идея об объединении фронтов была расценена как проявление амбиций малоталантливого командующего Хозина, который еще в декабре 1941 г. активно возражал против переподчинения 54-й армии, действовавшей за блокадным кольцом, внешней группировке наших войск, возглавляемой генералом Мерецковым. 8 июня 1942 г. Волховский фронт был восстановлен, Мерецков возвращен к руководству им, а неудачливому Хозину, выдвиженцу маршала Жукова, нашли замену в лице командующего Ленинградской группой войск (той, что внутри блокадного кольца) генерала Л. А. Говорова.
Таким образом, отец вернулся из госпиталя как раз в период переформатирования наших войск на Северо-Западном направлении.
В мае – июле были созваны фронтовые курсы военкомов – военных комиссаров частей и подразделений, отец стал секретарем партбюро этих курсов.
1/ VI – 42 г., видимо уже обретя фотогеничный вид после пребывания в госпитале, он снимается в ателье местного фотографа – в полный рост на фоне рисованного задника, изображающего штормящее море, и отсылает семье, то ли еще на родину – в Астрахань, или уже на Урал. Не уверен точно куда, поскольку именно летом 1942 г. моя мать с младшей сестрой и двумя малолетними сыновьями вынуждена была покинуть этот волжский город по причине начавшейся систематической его бомбежки. В это время немцы подошли к Сталинграду, и Волга как главная транспортная магистраль стала объектом повышенного внимания противника.
На обратной стороне снимка написано: «На долгую и добрую память дорогой и милой жене Нате от любящего мужа Леши Сутырина».
(Брат потом вспоминал, что в первые годы войны все письма приходили от отца с почтовым штемпелем г. Боровичи Новгородской области. Видимо там и располагался политотдел фронта. А может быть, там было отделение полевой почты, которое концентрировало письма-треугольники из частей, проверяло строгим оком военной цензуры, сортировало по направлениям и отправляло в тыл.)
Море на фоне – это, конечно, случайность. Просто другого задника у фотографа не оказалось, но как символично это хмурое небо и начинающее штормить море отразили обстановку на фронте…
Наше наступление с целью деблокирования Ленинграда всё никак не приносило успеха, и работа по воспитанию вдохновителей будущих побед требовала постоянных усилий.

Политрук А. И. Сутырин. 1942 г.
Казалось бы, что нового в дополнение к уставам и уже известным директивам можно было донести на этих курсах до фронтовых политработников? Но нужно понимать, что находясь в лесах и болотах переднего края, бойцы и командиры оторваны от всего остального мира. Им неведомо, что происходит не только у них в тылу, но и у соседей – справа и слева. Знание о том, что на других фронтах наступают успешней, что уже освобождены первые занятые врагом советские города и села, рассказы о подвигах, информация о международном положении – всё это расширяло понимание того, какая задача предназначена каждой воинской части, входящей в состав Волховского фронта, и всем этим своевременно должны были быть вооружены комиссары батальонного, полкового, бригадного, дивизионного и корпусного уровня.
Н. В. Трущенко вспоминает, что «когда была опубликована Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченной ими советской территории, мы, вооруженные ее текстом, пошли по землянкам: нужно было рассказать о ее содержании каждому воину…
В этом документе говорилось об издевательствах над советскими людьми и массовых убийствах, о глумлении над значительными памятниками русской культуры. Говорилось, что режим ограбления и кровавого террора по отношению к мирному населению захваченных сел и городов представляет собой не какие-то эксцессы отдельных недисциплинированных военных частей, отдельных германских офицеров и солдат, а определенную систему, заранее предусмотренную и поощряемую германским правительством и командованием…
Такие документы рождали у воинов жгучую ненависть к врагу, неукротимое стремление разгромить фашистских захватчиков».
В ближнем тылу партполитработа велась на различном уровне. Так, Б. Ф. Редько вспоминает, как его, заместителя политрука, направили на пятидневные курсы при политотделе дивизии: «Занятия в «лесной академии» (так в обиходе называли мы свои курсы) проводили комиссар дивизии, начальник политотдела и другие опытные политработники.
В эти же дни меня приняли в партию».
Характерно, что заявления о приеме в партию в войсках писались накануне вступления в бой. Комбриг Б. Владимиров вспоминает, как в марте 1942 г. воины его 140-й бригады до ввода в бой совершали тяжелый шестнадцатисуточный ночной марш по глубокому снегу, в котором вязли даже лошади. Но бойцы стойко переносили тяготы, понимая, что идут на помощь осажденному Ленинграду. И еще до завершения перехода, за первые десять его суток, бойцами было подано 47 заявлений о приеме в ВКП (б). Это был показатель работы политруков и их заместителей накануне марша и в течение его. Комиссаром бригады в этот период был Б. М. Луполовер.
Подобное же вспоминает В. А. Крылов, в начальный период войны – старший политрук дивизиона 23-го артиллерийского полка 4-й гвардейской армии: «Сержант Федор Митрофанов, помощник командира взвода боепитания, подал мне листок бумаги. Читаю: „Прошу считать меня коммунистом. Право быть принятым в партию я заслужу в бою“. Об этом же заявили командиры орудий сержанты Кинжалов, Вьюнов, Макиенко, Дубина, рядовые Михеев, Золотарев. В то утро, перед началом боя, партийная организация дивизиона увеличилась на 15 коммунистов».
28 июня 1942 г. в преддверии ключевых событий на фронтах Великой Отечественной наркомом обороны был издан знаменитый приказ №227, известный в войсках главным своим императивом: «Ни шагу назад!». Как отмечается в коллективном труде ученых Института военной истории Министерства обороны СССР, «в войсках Волховского фронта проводилась огромная работа по разъяснению этого приказа каждому воину. В результате повысилась стойкость в бою, значительно усилился поток заявлений в партию. Только с 1 августа по 21 сентября 1942 г. в партийные организации фронта поступило 5911 заявлений о приеме в члены партии и свыше девяти тысяч новых членов пополнили ряды Ленинского комсомола».
Политрукам для своей работы не нужно было искать в книжках примеры личного героизма воинов прошлого. Прецедентов было предостаточно вокруг – в реальной военной жизни. Так, в боях июня 1942 г. погиб лейтенант Л. С. Трифонов. В его полевой сумке была найдена тетрадь с любопытной записью: «Что надо помнить о войне». Там в частности говорилось:
«…Сосредоточить все свои помыслы, всю свою силу, всю ловкость, все знания, всю душу на мести врагу.
…Будь при всех обстоятельствах честен, ибо честные люди есть смелые люди, потому что норма их поведения не позволяет стать трусами. Нелегко идти на смерть, кто бахвалится этим – тот лжет. Бросаясь в атаку, думай о жизни, а не о смерти, думай о том, чтобы, оставаясь в живых, не стыдно было взглянуть в лицо павшим.
В самые трудные минуты, когда смерть овевает тебя своим дыханием, вспомнив это, ты обретешь сверхчеловеческую силу, и волей к жизни, к победе победишь смерть…
Помни, что бой является лучшей школой войны. Поэтому будь всегда наблюдательным, анализируй каждый бой, с тем, чтобы можно было взять из него положительное и не повторить ошибок. При удачной боевой операции не зазнавайся, при неуспехе – не впадай в уныние. Объективно и трезво умей оценить и то, и другое, найди корни успеха и неудачи.
Только анализируя и повседневно учась на войне, ты не отстанешь от нее, а научишься управлять боем, планировать его, будешь уметь извлекать из любой обстановки и местности положительное для себя и для успеха своих войск».
Готовая лекция для пропагандиста! Жаль, что ее не прочел бойцам сам автор…
В частях фронта велась активная работа по пропаганде передового боевого опыта. Были сформированы специальные бригады, которые выезжали на передовую, делясь своим успешным опытом ведения боя. Проходили совещания боевого актива, слеты орденоносцев, митинги боевого содружества.
Еще одно направление работы политорганов – работа с представителями национальных меньшинств. К середине 1942 г. на Волховском фронте воевали представители 40 национальностей. Многие из них плохо понимали русский язык и как следствие – не могли выполнить приказ командира. Для решения этой проблемы при фронтовых курсах комиссаров было организовано отделение по подготовке политработников для работы среди воинов – выходцев из Средней Азии и Кавказа. Таких приходилось учить русскому языку едва ли не с азов. Для них с конца 1942 г. политуправление фонта начало издавать газеты на их родном языке. Также были подобраны агитаторы, могущие работать среди солдат-нацменов.
Говоря о созидании победного духа нашего воинства, нельзя забыть и культурное обеспечение воинов Волховского фронта. Здесь, как и на других фронтах, существовал Дом Красной Армии. Понятно, что речь не о каком-то дворце с колоннами в традиционном понимании клубного учреждения, а об организации, которая координировала деятельность лекторской группы, а также фронтовых бригад артистов.
Заместитель начальника Дома Красной Армии Волховского фронта в 1942 – 1944 гг. А. Д. Казарин вспоминает, как у них со своим джаз-оркестром появился Леонид Утесов:
«Джаз Утесова почти каждый день выезжал с концертами в действующие части фронта. Музыкальная задушевность, искристый юмор, острая злободневность, тесный контакт со зрителем и особая «утесовская» динамичность – вот самые сильные стороны этих концертов. Сам Леонид Осипович был на сцене конферансье, певцом, музыкантом, танцором и даже акробатом. Солдаты с восторгом встречали его. Становилось как-то легче от его веселых шуток, бодрящих песен, метких острот…
Надо заметить, что выступать Утесову приходилось часто в условиях, когда над импровизированной фронтовой эстрадой кружились вражеские самолеты, а бывало, что и свистели пули, осколки мин, снарядов. Смеяться в этих условиях самому и вызывать хохот зрителей – разве это не отвага?
На Волховском фронте выступал также талантливейший артист Владимир Николаевич Яхонтов – актер-публицист, превращавший документ, газетную хронику, научную статью в художественное произведение. Он, например, читал с эстрады «Коммунистический Манифест», и слова этого политического документа воспринимались аудиторией как самая возвышенная поэзия…
В частях фронта Яхонтов чувствовал себя как в родной стихии. У него быстро налаживалась дружба с солдатами и командирами. Он часто порывался идти вместе с ними в бой, но удерживало лишь всемогущее слово – дисциплина».
Пела перед бойцами-волховчанами и известная исполнительница народных песен Ирма Яунзем.
Более 500 концертов воинам Ленинградского и Волховского фронтов дал оркестр, с которым выступала Клавдия Шульженко.
Неоднократно с чтением своих стихов и лекций приезжал известный ленинградский поэт Всеволод Рождественский.
А. Д. Казарин вспоминает:
«Наиболее часто он выступал по двум темам: «Величие и мировое значение русской культуры» и «Алексей Максимович Горький и Красная Армия (по личным воспоминаниям) ” Его выступления пользовались большим успехом. Он близко знал Горького, интересно рассказывал о А. Н. Толстом, А. Блоке, С. Есенине.
Поэт Вс. Рождественский написал слова многих песен, пользовавшихся большой популярностью среди воинов-волховчан: «Песня 256-й дивизии», «Песня строителе й Назийских дорог», «Песня о пулеметчике Иване Смирнове»».
А генерал И. И. Федюнинский отмечает в своих воспоминаниях, как 23 февраля 1942 г. в Гороховец, где находился политотдел 54-й армии, вместе с делегацией ленинградцев прибыла поэтесса Вера Инбер: «Гости привезли бойцам и командирам подарки: маскировочные халаты, бритвенные приборы, табак, перчатки, полевые сумки, музыкальные инструменты. Кроме того привезли пять автоматов, которые из-за отсутствия в Ленинграде электрической энергии были целиком (кроме стволов) изготовлены вручную. На автоматах имелись надписи: „Лучшему истребителю фашистских оккупантов“».
Целый ряд поэтов и прозаиков был в штате дивизионных, армейских и фронтовых газет. Выше уже упоминался А. Чаковский. Сюда же следует добавить П. Лукницкого. В газете 2-й ударной армии служил молодой поэт Всеволод Багрицкий (сын Эдуарда Багрицкого). 26 февраля 1942 г. он погиб во время вражеского авианалета, выполняя редакционное задание. Спустя месяц образовавшуюся вследствие этого вакансию в газете «Отвага» занял Муса Джалиль…
В газете «Фронтовая правда», которая поступала в окопы буквально в день ее выхода из походной типографии, военкором служил поэт Павел Шубин, автор знаменитой «Волховской застольной»:
Редко, друзья, нам встречаться приходится,Но уж когда довелось,Вспомним, как было, и выпьем, как водится,Как на Руси повелось!Вспомним о тех, кто командовал ротами,Кто умирал на снегу,Кто в Ленинград пробирался болотами,Горло ломая врагу…Будут в преданьях навеки прославленыПод пулеметной пургойНаши штыки на высотах Синявина,Наши полки подо Мгой!Еще в ходе войны эта песня на слова П. Шубина воспринималась уже как народная.
В отделе контрпропаганды политуправления Волховского фронта служил Юрий Нагибин. Позже он вспоминал, как контрпропагандисты придумали ловкий ход: отпечатали листовку, в которой призывали немцев сдаваться, а на обратной стороне – билеты в Александринский театр, что в Ленинграде, на премьеру оперетты «Сильва» Имре Кальмана. Вряд ли кто из захватчиков на это купился, но тоску по мирной жизни такие листовки у них наверняка вызвали.
Из деятелей культуры во время боев на Волховском фронте погиб кинорежиссер Евгений Червяков, поставивший известные до войны фильмы «Девушка с далекой реки» и «Поэт и царь». Он воевал в той самой 11-й стрелковой дивизии в качестве командира роты…
Весь 1942 г. фронты Северо-Западного направления провели в наступлении. Операции сменяли друг друга: Любанская, 7 января – 30 апреля; Демянская, 7 января – 20 мая; 2-я часть Любанской по выводу из окружения 2-й ударной армии, конец мая – июль; Киришско-Грузино-Погостьевская, июнь – июль; Синявинская-42, 19 августа – 10 октября…
Вот как раз в конце сентября в ходе этой операции вышла из окружения в районе Гайтолово 294-я стрелковая дивизия. Вышла сильно поредевшая и была тут же отправлена на пополнение. Мой отец из резерва штаба фронта был назначен в эту дивизию парторгом 861-го стрелкового полка.
Дивизия в обновленном составе заняла фронт обороны 54-й армии на участке между Погостьем и Киришами. Сзади за позициями простирался всё тот же Соколий Мох – великое болото размером с доброе озеро, будь оно не ладно. (Как писал ленинградский поэт Александр Гитович – частый гость у волховчан: «На запад взгляни, на север взгляни – болота, болота, болота…») Боевая задача дивизии: наряду с соседями обеспечивать оборону флангов «погостьевского мешка» – чтобы он невзначай не захлопнулся, как это вышло в случае со 2-й ударной…
Но основные события разворачивались на правом фланге фронта. Здесь шедшие навстречу друг другу сквозь немецкую оборону бойцы Волховского и Ленинградского фронтов пытались встретиться и… в очередной раз не смогли. Не хватило мóчи.
Закончившаяся неудачно операция Синявинская-42 была частью бóльшего штабного замысла под кодовым названием «Искра». И вот он уже в январе 1943 г. привел к желаемому результату: войска обоих фронтов наконец-то впервые за всю войну увидели друг друга в лицо. Отвоеванный коридор был весьма не широк: 8 – 10 км, однако теперь помощь Ленинграду пошла по суше. Сухопутная блокада города была прорвана, но, конечно, не снята вовсе. Немцы простреливали коридор и, значит, задача ликвидации нависающей над Приладожским коридором мгинско-синявинской группировки врага продолжала оставаться актуальной.
Тосненско-Мгинская наступательная операция, длившаяся с 10 по 23 февраля 1943 г., продолжила решать эту задачу и… тоже не решила.
В середине марта ее сменила Войтоловско-Мгинская, которую начал Ленинградский фронт и в апреле подхватил Волховский…
Нужно сказать, что к этому времени уже победно завершилась для нас Сталинградская битва. Немцам под Ленинградом эта весть вряд ли придала моральных сил. Зато Красная Армия, разделавшись с проблемой на Волге и получив сухопутный коридор в Ленинград, смогла, наконец, нарастить силы для победы и на Северо-Западном направлении. Теперь защитники города на Неве по своим боевым ресурсам превосходили врага в 2 раза, а волховчане – в 1,3. Маятник победы качнулся в нужную нам сторону…
Проводя переформирование сил в этом районе боевых действий, Ставка сочла возможным снять с передовой 294-ю дивизию, в которой воевал отец, и определить ее в резерв для дальнейшего использования на другом участке фронта. 4 мая 1943 г. она была переподчинена 52-й армии, а ту, в свою очередь, месяцем позже в полном составе перебросили на центральный театр боевых действий – в распоряжение Воронежского фронта.
Прежде, чем я перейду ко второй фронтовой главе в жизни отца, хотелось бы отметить важный рубеж в системе управления войсками Красной Армии.
Известно, что со времен еще гражданской войны у руля армейских частей стояли двое – командир и комиссар. Второй осуществлял линию партийного (правительственного) руководства, в то время как первый непосредственно командовал красноармейцами во время боя и в мирных условиях. Такая «двуглавость» нужна была для того, чтобы за командиром – нередко бывшим царским офицером или своим по классу, но морально и политически не стойким – был строгий надзор. Вспомните классический фильм «Чапаев»: Василий Иванович – это энергетический импульс, отвага, авторитет у солдат; а Фурманов – это холодное рацио, основанное не на сиюминутном видении обстоятельств, а понимание текущей ситуации на долговременной основе. Не секрет, в боевой обстановке, бывало, «вторая голова» мешала «первой» – всё зависело от личных качеств комиссара и его знания военного ремесла. Но в большинстве случаев такая система управления в Красной Армии себя оправдывала и дожила с перерывами до 1941 г. Уж в конце-то 30-х, когда был разоблачен заговор высших военных, сомнения в ее пользе у руководства страны точно не было… В первые месяцы войны ситуация на фронте складывалась не в нашу пользу и нередко именно низовые политработники оказывали цементирующую роль в собирании разрозненных в результате отступления сил.
Та неустанная работа по воспитанию политруками и комиссарами бойца-победителя, о которой сказано выше, во второй половине 1942 г. привела к нужным результатам – сначала к успеху на отдельных участках большого фронта от Арктики до Кавказа, а затем и к осознанию, что строевые командиры Красной Армии доказали делом свою преданность советской власти и руководству страны и уже не нуждаются в опеке со стороны партийных представителей.
9 октября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР институт комиссаров в Красной Армии был упразднен. Партийные организации в войсках стали первичными (в стрелковых частях – полковыми, вот откуда новая должность отца в 861-м полку), а руководить партполитработой (ее никто не отменял!) продолжили политотделы дивизий, армий, политуправления фронтов. В итоге такой реформы армейских политорганов к лету следующего 1943 г. (это процесс не одномоментный!) было высвобождено ни много, ни мало 130 тысяч армейских политработников, которых направили в части в качестве строевых командиров.
За время ведения боевых действий комиссары, политруки, заместители политруков, выполняя свои прямые обязанности, научились и руководству частями и подразделениями, когда штатные командиры по тем или иным причинам выбывали из строя. Множество таких примеров можно встретить в воспоминаниях участников войны.
Вот факт, приведенный в коллективном труде военных историков «На Волховском фронте»:
«В районе Сенной Керести 7 апреля 1942 г. противнику удалось прорваться в наш тыл и окружить штаб 848-го стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии 59-й армии. Находившийся там в то время комиссар дивизии полковой комиссар В. П. Дмитриев мгновенно оценил обстановку. С автоматом в руках, со словами «За Родину!», «За партию Ленина!» этот мужественный человек, грудь которого украшали три ордена Красного Знамени, увлек воинов в контратаку. Фашисты не выдержали и стали отходить. Положение было спасено. Но комиссар Дмитриев героически погиб, сраженный вражеской пулей… В. П. Дмитриеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Через много лет после войны стали известны обстоятельства героической гибели члена Военного совета 2-й Ударной армии дивизионного комиссара И. В. Зуева, возглавившего в июне 1942 г. прорыв частями 2-й Ударной армии вражеского кольца у Мясного Бора…»
Комбриг Б. А. Владимиров вспоминает начальника политотдела своей бригады батальонного комиссара Н. Г. Сергиенко, который вместе с другими командирами и бойцами принял участие в разведке и погиб при возвращении…
Он же вспоминает младшего политрука Н. Климова, который во главе взвода «ворвался в расположение обороны немцев. Перебив часть гарнизона ротного опорного пункта, взвод захватил артиллеристское орудие и, повернув его в сторону противника, открыл огонь по убегающим фашистам».
И таким примерам несть числа… Политработники же, не получившие в процессе своей деятельности достаточных боевых навыков, направлялись на переподготовку, после чего определялись на командные должности в войска.
22 декабря 1942 г. в преддверии прорыва блокады Указом Президиума Верховного Совета СССР как моральный стимул была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», награждению которой подлежали все военнослужащие, воюющие на Ленинградском и Волховском фронтах. Это была, пожалуй, первая по времени учреждения массовая медаль Великой Отечественной, которая украсила грудь тех, кто дожил до ее вручения. А изготавливалось такое количество латунных кругляшков с барельефом защитников – военного, морского и двух штатских, мужчины и женщины на фоне шпиля адмиралтейства – почти весь следующий год. 18/IV- 43 г. мой отец и его боевые товарищи на фотоснимке стоят, что называется, с пустой грудью – еще ни одной награды, только у начальника с тремя шпалами в петлице на старой еще четырехугольной колодке медалька «ХХ лет РККА» (значит, кадровый: служил еще в 1938 г., когда эта дата и отмечалась).

