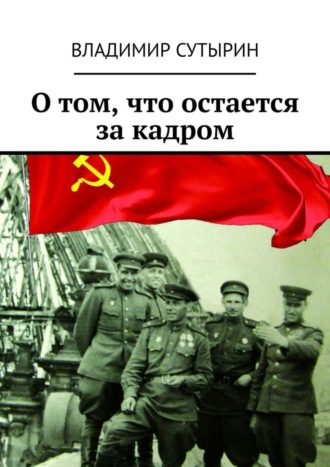
Полная версия
О том, что остается за кадром
Так поднимался моральный дух нашего воинства.
В арсенале тогдашних политработников, как правило, не имелось каких-либо особых технических средств. Главным методом была беседа, то есть непосредственное общение. Как вспоминает Н. В. Трущенко, «мне очень хотелось вести живой, настоящий разговор с бойцами, которые все были старше меня, не раз ходили в атаку, видели смерть». Но особого внимания требовали, конечно, молодые солдаты, пополнившие ряды перед наступлением… «Одного солдата подбадривала веселая шутка. Другого надо было успокоить участливым словом. Особенно, если из дома приходили плохие вести… В коротких передышках проводили с солдатами политбеседы, читали вслух газеты, а то и письма от родных, согретые теплом далекого дома… Ничего так не поднимало силы бойцов, как вовремя пришедшая весть об успехе товарищей по роте или батальону, написанный о нем рассказ в боевом листке, который мы выпускали… Много было забот у заместителей политруков: следить за своевременной доставкой на передовую писем, газет, крепкой махры. Всё это не хитрый, на первый взгляд, но по-своему сложный круг забот замполита».
В условиях фронтовой жизни, когда бойцы находятся на позиции, охватить всех своим вниманием в равной степени замполит роты, конечно, не мог. И тогда в помощь ему назначались агитаторы – грамотные бойцы и младшие командиры, не обязательно члены партии. Как правило, они читали бойцам материалы из газет и сводок Информбюро о положении на фронтах, вели беседы по прочитанному. От агитатора требовалось не только понимание предмета, о котором он говорил с другими, но и умение убеждать, внушать веру в свои слова.
Писатель, а в годы войны фронтовой журналист, Александр Чаковский приводит в своей повести «Военный корреспондент (Это было в Ленинграде)» такую сцену:
«Мы вышли из машины и пошли к развалинам.
Немецкая артиллерия била не умолкая. Снаряды ложились правее нас, где-то в районе переправы. Подул холодный ветер, начинало морозить.
Было видно, как горят костры в подвалах сохранившихся домов. Я заглянул в один из подвалов. Там тоже горел костёр, и группа бойцов грелась у огня.
Никто не обернулся, когда мы вошли. Бойцы сидели вокруг костра и слушали кого-то. Говорила женщина. Мы не видели её лица, она сидела спиной к нам.
Мы тихо обошли круг, чтобы увидеть лицо говорившей. Это была совсем ещё молодая девушка. На вид ей нельзя было дать больше восемнадцати лет. У неё был очень высокий голос.
Девушка говорила о Ленинграде. Я понял это не сразу. Она не произносила слово «Ленинград». Девушка говорила «он», и мне сначала показалось, что речь идёт о каком-то человеке.
Девушка говорила о бомбёжках, артиллерийских обстрелах и о пожарах в городе. Она сказала, что Гостиный двор горел…
Наконец девушка кончила говорить.
Я подошёл и спросил, давно ли она из Ленинграда. Но девушка ответила, что никогда там и не была, а всё это только слышала и читала. Она агитатор полка и всю жизнь провела в Забайкалье…
– Вот кончится война, – сказала девушка, – тогда обязательно в Ленинград поеду…»
Б. Ф. Редько, бывший до войны учителем, вспоминает, как инструктор по пропаганде и агитации полка назначил его агитатором минометного взвода:
«– Политрук роты и комиссар полка, – говорил он, – помогут вам, обеспечат нужным материалом.
Сам он дал мне номера «Правды», «Красной звезды», «Ленинградской правды», а также армейской и дивизионной газеты. По их материалам я и начал агитационную работу.
Запомнилась первая беседа о жизни и борьбе ленинградцев, находившихся в блокаде. Все мы знали, что рабочие города на Неве получают в день всего по 250 граммов хлеба, а служащие и дети – и того меньше. Знали, что от бомбежек, обстрелов и голода тысячи мирных людей погибли. Положение Ленинграда чрезвычайно волновало всех нас.
Я подобрал много фактов, которые свидетельствовали о стойкости ленинградцев, их непоколебимой вере в победу, и рассказал о них гвардейцам. Мои товарищи узнали из беседы, что ленинградские рабочие не только ремонтируют боевую технику, создают оружие и боеприпасы, но и сохраняют исторические, культурные ценности. Они частично восстановили трамвайное движение, водопровод…
– Ленинград держится, борется, живет и ждет нас, – говорил я своим однополчанам. – Ждет подвига гвардейцев в боях при прорыве блокады».
Вот так непосредственно на переднем крае вели свою воспитательную работу политорганы Красной Армии.
Вернемся к положению на Северо-Западном направлении в конце 1941 – начале 1942 гг.
Если успешное в целом наступление наших войск с востока позволило освободить железнодорожную линию Тихвин – Волхов и наладить многоступенчатое снабжение Ленинграда: по «железке» – ледовой «Дороге жизни» – снова по «железке», то действия 54-й армии с севера в направлении железнодорожного участка Мга – Кириши встретили упорное сопротивление врага. К началу января 1942 г., наступая, наши продвинулись едва на 4 – 5 км, но закрепиться не смогли, и были оттеснены немцами на исходные рубежи.
В помощь 3-й гвардейской дивизии и другим частям, застрявшим в снегах на подступах к немецкой обороне, из Ленинграда была переброшена 11 стрелковая дивизия, в политотдел которой в декабре 1941 г старшим инструктором по организации партийной работы был назначен мой отец. Прибыв на берег Ладоги, они по озерному льду перешли с западного берега на южный и сосредоточились в районе станции Войбокало. Впереди было Погостье…
Генерал И. И. Федюнинский, командовавший 54-й армией, спустя годы вспоминал:
«Каждому участнику войны знакома не только радость побед, но и горечь неудач. Каждый, вспоминая прожитое, может сказать, когда ему было всего труднее. Такое не забывается. И вот если бы мне задали подобный вопрос, я бы без колебаний ответил:
– Труднее всего мне было под Погостьем зимой тысяча девятьсот сорок второго года…»
Само слово Погостье вряд ли у кого вызовет радость, тем более не вызывало у тех, кому предстояло штурмовать опорные пункты немцев на самой станции и в одноименном поселке… Хотя первоначально этим словом в достопамятные времена называлось место – стан, где располагались прибывшие «гости» – купцы со своим товаром, разбивавшие временный рынок для натурального обмена или торговли за деньги. Также на погосте останавливалась и княжеская дружина, собиравшая с местных жителей дань (налог). Полагаю, это уже потом как бы в шутку – метафорически – погостом стали называть вечный стан: кладбище. И вот этот, последний смысл слова в декабре – января 1941 г. оказался самым точным…
В. Станцев:
«Так что же это за станция Погостье?.. Это даже не станция, а точнее сказать, полустанок. Лежит он почти посередине между Киришами и Мгой, то есть имеет большое тактическое значение. Со взятием Погостья прерывалось железнодорожное сообщение противника со своими тылами в этом и других районах.
Перед станцией – довольно обширная поляна, занесенная снегом. Под снегом – убитые, на каждом шагу. Наши части наступали здесь еще поздней осенью, но из этого ничего не получилось – только потеряли людей. Еще тогда бойцы прозвали эту поляну «долиной смерти». Таковой она стала потом и для 3-й гвардейской.
Немцы прочно закрепились здесь. И не мудрено. Высокая насыпь достигала пяти-восьми метров, ширина итого больше – до двенадцати. На заминированных подступах к станции – проволочные заграждения в два кола, блиндажи, перекрытые несколькими слоями рельсов – не брали и тяжелые снаряды. В самой насыпи – дзоты через каждые 20 – 25метров, с огнеметами и пулеметами, между ними еще пулеметные точки, несколько в тылу – артиллерийские и минометные батареи, а еще дальше – десятки «скрипунов», которые при стрельбе бьют не по цели, а по обширной площади. А в ясную погоду (не любили бойцы эту «ясную» погоду) – пикировщики. Наших самолетов почти не было: ни бомбардировщиков, ни истребителей. Танки были, с десяток, но что проку. Преодолеть насыпи они не могли: крутизна… Вот и наступай тут! Опять ставка на пехоту. А, точнее, на потери: если бросить в атаку побольше людей, кто-нибудь доберется до насыпи… Такова жестокая логика войны: станцию надо непременно взять, любой ценой, иного выхода нет…
И вот пришла ночь на 6-е января 1942-го… Кому она не памятна? Только погибшим…
Бойцы после короткой артподготовки поднялись в атаку. Немцы превратили ночь в день. Над поляной повисли сотни осветительных ракет. Пулеметные очереди, снаряды и мины без труда смяли наступательную цепь. Вторую постигла та же участь. Но приказ есть приказ: взять!!! У комдива и военкома чуть ли не слезы на глазах: видят, что не взять, зря люди гибнут…
Собрав остатки в третью цепь и возглавив ее, старший лейтенант Федор Синявин сделал еще одну попытку пробиться к насыпи. И были уже близко к ней бойцы, но цепь обессилила – почти все полегли. С ними и Федор Синявин…»
В. Бешанов, автор, живущий в Белоруссии, – из тех же радетелей «черной» правды о войне, что и упоминавшийся выше Н. Никулин (написавший, кстати, хвалебное предисловие к бешановской книжке «Ленинградская оборона»), приводит воспоминания немецкого солдата, воевавшего под Погостьем:
«Едва забрезжил рассвет, толпой атаковали красноармейцы. Они повторяли атаки до 8 раз в день. Первая волна была вооружена, вторая часто безоружна, но мало кто достигал насыпи. 27-го красноармейцы четырнадцать раз атаковали нашу позицию, но не достигли ее. К концу дня многие из нас были убиты, многие ранены, а боеприпасы исчерпаны. Мы слышали во тьме отчаянные призывы раненых красноармейцев, которые звали санитаров. Крики продолжались до утра, когда они умирали».
От себя Бешанов добавляет: «Многие немецкие пулеметчики от таких впечатлений тронулись умом»…
Какая слабая психика у этих фашистов! Тронулись умом от жалости к врагу?.. Не больно верится, как и в то, что «многие из нас были убиты, многие ранены» – это чем же, если русские бежали на них безоружными? Что-то не стыкуется у этого воспоминателя Хендрика Виерса, который через много лет хочет выглядеть не убийцей, а скорее жертвой. А вот то, что санитары не могли подобраться к раненным, поскольку Хендрик и его «камрады» стреляли и по тем, у кого на сумках был красный крест, скорее, правда. Потому и «боеприпасы исчерпаны».
Единомышленник Бешанова Н. Никулин добавляет перца в изображение давних событий в районе Погостья:
«…Большинство солдат, прежде всего пехотинцы, ночевали прямо в снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками…
Тяжкой была судьба тяжелораненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную, круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания…»
Что ж, это правда. Как сказал тот же поэт, М. Кульчицкий, «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Смертельно трудная, и это – не поэтический образ.
13 января 1942 г. прибывшая из-под Ленинграда 11-я стрелковая дивизия сменила измотанную непрерывными боями 3-ю гвардейскую и продолжила ее дело – штурм неприступного Погостья. И снова бесконечные атаки пехоты, лишенной огневой поддержки… Успех пришел только спустя несколько дней, когда 16 января в арсенале атакующих появились танки 122-й танковой бригады, переброшенной им в помощь. Вот тогда пала зловещая насыпь. Саперам удалось подложить взрывчатку, которая обеспечила проход, куда и ринулись наши танки. Была взята станция Погостье, а за ней и поселок. Наши войска глубоко вклинились в оборону немцев.
А вот еще одно свидетельство с обратной стороны – от того же ветерана вермахта Х. Виерса, оборонявшегося под Погостьем:
«Железная дорога была уже в руках противника, как и лес по обе стороны поляны Сердце… Из нашей роты к тому времени почти никого не осталось. Отрезанные от батальона, мы должны были бороться за жизнь. Иссякали боеприпасы и продовольствие. Нам приходилось искать пищу в рюкзаках (точнее, вещмешках. – В. С.) павших красноармейцев. Мы находили там замерзший хлеб и немного рыбы.
Ситуация для нас была крайне плоха…
Однажды утром со стороны Кондуи пришло пополнение – маршевый батальон. Он был обстрелян из небольшого леса и направлен на штурм противника. Почти все, участвовавшие в штурме, погибли…»
Публикатор этих воспоминаний добавляет, что почти все солдаты и офицеры, переброшенные из Франции, среди которых был и сам Виерс, «были убиты, ранены или обморожены». (Это к вопросу о том, что упорные бои на Волховском фронте стоили немалых потерь не только нашим.)
Официальная штабная сводка со стороны Красной Армии подтверждает результат этого боя таким образом: были уничтожены 3 танка противника, 10 орудий, цистерна горючего и более 300 немецких солдат и офицеров. То ли бывший враг в своих мемуарах преувеличил потери своих со страху, то ли наши штабисты поскромничали…
В. Станцев:
«Железнодорожная ветка Кириши – Мга была перекрыта. Наконец-то. Но цена, цена!.. Как и во все время предыдущих наступлений, были и на этот раз посланы команды для сбора оружия и документов. Только одних красноармейских книжек доставили эти команды в дивизионный штаб несколько мешков…»
Такова стоимость этой тактической победы…
Спустя месяц боев под Погостьем – на 15 февраля 1942 г. – начинавшая воевать после пополнения 11-я стрелковая дивизия имела в своем составе лишь… 107 активных штыков. Умения воевать с малыми потерями нашим стратегам еще не доставало – по-прежнему брали числом…
Может, это имел в виду отец, когда говорил моему старшему брату: «Тебе, Боря, это знать не нужно…»?
Сам он продолжить наступление в сторону Любани, что на железнодорожной ветке Москва – Ленинград, вместе с 11-й стрелковой уже не смог: угодил в госпиталь.
В его послужном списке значится: январь – март 1942 г. – в госпитале №1185, г. Вологда. Диагноз: дизентерия. Видимо в пылу боев хлебнул из чьей-то фляжки, набранной из ручья, что тёк из болотных глубин… Когда смерть летает вокруг в виде пуль и осколков, не думаешь, о том, что опасность и под ногами. Ленинградская область – край не столько речной и озерный, сколько болотный. Один Соколий Мох, не болото, а целое море, от южного берега которого начинали это наступление, чего стоил. А таких «сокольих мхов» (взгляните на карту) на северо-западе набросано едва ли не сплошняком! Эти болота, укрытые зимой толстым снежным одеялом, в глубине не замерзают, продолжают жить своей подспудной – гнилой лешей и баба-ёжьей жизнью…
(Удивительно, но спустя почти тридцать лет, я тоже оказался в районе Погостья. Это была моя первая командировка в качестве телевизионного режиссера. Вместе с оператором и группой красных следопытов из различных ПТУ г. Свердловска мы отправились туда с благородной целью: указать родственникам погибшего воина место, где ребятами были обнаружены его останки. По счастью этот воин родом из подмосковного Озёрского района не выбросил, как это часто бывало, медальон – черный пластмассовый патрончик, в который закладывалась свернутая в трубочку бумажка, где значились имя, отчество, фамилия и место, откуда он призывался. Этот патрончик позволил следопытам установить личность погибшего и найти его родню… И вот мы выехали из Свердловска на поезде, а родные – два мужчины с большим фибровым чемоданом, на «волге» председателя тамошнего колхоза – из Подмосковья. Сошли на станции Мга. Стоял сентябрь. Вокруг станции небольшой поселок, а дальше – сплошняком не высокий, но густой тонкоствольный лес. Вот среди таких «болотных джунглей» и пришлось тридцать лет назад наступать нашим – тремя эшелонами вначале и потом уже, когда не стало комплекта – одним. Об этом вспоминал генерал Федюнинский…
Вскоре подъехал и представитель местного райвоенкомата – на грузовике с песком в кузове и с солдатом-сапером. Дело в том, что недалеко от места гибели воина следопыты видели неразорвавшийся снаряд – он демонстративно лежал на пригорке… Как объяснил офицер из военкомата, в этих местах таких гостинцев полным-полно. В лес от железнодорожной насыпи углубляться запрещено ввиду множества неразорвавшихся боеприпасов, что прячутся в траве, под землей, в старых блиндажах. Смертельные случаи среди местных смельчаков – не редкость. Он рассказал эпизод, когда в лес зашли школьники во главе с учительницей – видимо не местные, приехавшие из города – промочили ноги и решили на пригорке развести костер. А под костром оказалась мина – ждала своего часа тридцать лет. Итог похода был печален…
Мы ехали на грузовике, пока позволяла дорога. По пути дважды или трижды останавливались у братских могил погибших под Погостьем. На беленых кирпичных обелисках и стелах – фамилии тех, кто был опознан по документам. Их много. Мы привезли венок нашим землякам – воинам 3-й гвардейской и памятную доску, которую прикрутили к изгороди одного из памятников… А потом пришлось идти пешком по той самой железной дороге, что штурмовали и никак не могли перекрыть красноармейцы в 1941 – 1942 гг. Ничто вокруг не напоминало о войне – был мирный день, светило солнце и, кажется, пели птицы.
Не доходя до первых домиков станции Погостье, мы остановились. Острая зрительная память руководителя нашей экспедиции, ветерана, бывшего морского летчика Северного флота, капитана в отставке Исмагилова точно определила, где в окопчике у самой насыпи следопытами припрятаны от черных копателей найденные останки воина. Их всего ничего – череп да несколько костей. Сложенные в чемодан, они уедут в Озёрский район, где уже всё подготовлено для торжественного захоронения земляка…
Мы подъедем туда на поезде, потом на автобусе и станем участниками этого сельского схода. Увидим вдову солдата, что ожидала известия о пропавшем без вести муже буквально до последнего, и вдруг в январе, отчаявшись ждать, сожгла все его фронтовые письма. А спустя полгода и останки его нашлись…
Всё это происходило осенью 1983 г., когда к памяти о прошедшей войне относились еще с действительным, а не показным пиететом. В центре села высилась в полный рост гипсобетонная статуя солдата со склоненным знаменем. На плите мемориала значилось немало имен невернувшихся односельчан. До самого села, что лежит на берегах Оки, немцы в 1941-м не дошли едва-едва. Но село бомбили…
Запомнилась беседа с Озёрским военкомом. Он сетовал, что призванные сегодня из района снова гибнут – в Афганистане, но на могилах нельзя писать правду. Пишут стандартно: погиб при исполнении служебных обязанностей.)
…В годы войны Вологду называли «госпитальной столицей». Это был ближний тыл Волховского фронта. Ближний, потому что за западе области уже побывали немцы. И хотя наступление под Тихвином отбросило их на линию реки Волхов, ощущение недалекого фронта не покидало этот старинный русский город. Через него шли на передовую свежие части из глубины СССР и через Вологду же в обратном направлении двигались поезда с ранеными, обмороженными красноармейцами, уже успевшими хлебнуть боевой каши. Часть их ехала транзитом в глубокий тыл – кто до Свердловска, а кто и еще дальше. Но часть оставалась в вологодских госпиталях, коих было организовано в городе не один и не два…
Отца определили в госпиталь №1158, который открыли в бывшем учебном здании по адресу ул. Батюшкова, 2 – аккурат напротив местного кремля.
Дизентерия – болезнь курьезная: надо в атаку идти, а ты из-под куста встать не можешь. И беда в том, что эти бесконечные позывы обезвоживают организм, что без вмешательства врачей может запросто привести к летальному исходу.
Выше я высказал версию, что эту заразу можно было подхватить, хлебнув водицы из чужой фляжки. Это, конечно, версия романтическая, благородная. На деле дизентерийную палочку можно было поймать где угодно: взяв газету, побывавшую в руках носителя микроба; поев каши, приготовленной его руками; подхватив оружие убитого в бою; да в конце концов, пожав руку герою, вышедшему из боя… Как писал уже после войны, анализируя опыт советских военных медиков, полковник медицинской службы С. В. Висковский, «главную роль в передаче инфекционного начала играли грязные руки». А дизентерия и оказалась той «пятой колонной», что подкашивала воинов Красной Армии не хуже вражеских пуль. По мнению полковника медслужбы В. Т. Михайловского, на фронтах Северо-Западного направления случаи заболевания дизентерией (видимо в силу природных особенностей) возникали чаще, чем на других фронтах…
Вообще дизентерийный микроб – неизменный спутник большого долговременного скопления людей, если не поставлена на нужный уровень санитарная дезинфекция. А как ее поставишь на передовой, когда боезапас, и тот в нужном количестве обеспечить не удается, и блиндажи с землянками понад самым болотом построены, а санитары не успевают эвакуировать раненых из-под огня и отправлять их в санбат?
Из истории известно, в Крымскую кампанию 1854 – 1855 гг. у «цивилизованных» англичан, чей экспедиционный корпус составлял 30 000 солдат, дизентерию схватил каждый четвертый, а из заболевших так же каждый четвертый отправился к праотцам… Та же история произошла среди русских войск в период войны за Балканы в 1877 – 1878 гг., здесь потери Дунайской армии от бактериальной дизентерии составили ни много, ни мало 57% от общего числа потерь!.. И у немцев в период польской кампании 1939 г. эта зараза имела место, и более того, вермахт принес ее «нах фатерлянд», пришедшая вскоре зима никак не повлияла на ограничение ее распространения…
Погибший несколько лет назад киевский журналист и писатель Олесь Бузина в одной из своих последних книг раскрывает истинную причину поражения шведской армии под Полтавой в 1709 г. Всё доблестное войско Карла XII в прямом смысле обдристалось в полях Малороссии и вынуждено было спешно ретироваться, дабы не быть порублену российскими драгунами в украинских перелесках со спущенными штанами.
Так что не болезнь, а смех и грех одновременно…
О таком сыну, жаждущему рассказов о подвигах, не расскажешь. Потому что в действительности знать ему это не нужно. Как не нужно было тогда рассказывать и о ленинградцах, коим посчастливилось выбраться на большую землю из сомкнутой вокруг города сухопутной блокады.
Комбриг Б. А. Владимиров, чьи воспоминания о войне тоже пролежали в столе много лет и были опубликованы только в наши дни, вспоминает, как на одной из станций их эшелон, двигавшийся в сторону фронта, повстречался с встречным, везшим блокадников:
«Большинство эвакуированных принадлежало к старой интеллигенции. Среди них были ученые, профессора ленинградских вузов. Покидая город, они надевали на себя все, что имели, остальное было брошено в разбитых холодных домах. В енотовых шубах и каракулевых манто, замотанные в старые пледы и пуховые шали, измятые и грязные, они являли собой жалкое и страшное зрелище вырванных из ада людей. Их высохшие от голода и холода тела, мертвые пергаментные лица и глаза, глядевшие опустошенно и безучастно, производили жуткое впечатление. Казалось, что это не живые люди, а футляры, в которых чуть теплится жизнь, но скоро они остынут, рухнут на землю и рассыпятся в прах.
На одних станциях эшелоны разгружались и ленинградцев вывозили и размещали в населенных пунктах, на других – останавливались на время приема горячей пищи, после чего следовали дальше по своему маршруту. Везде наблюдалась одна и та же картина: все эвакуированные находились в состоянии тяжелейшей дистрофии. Помогая друг другу, они с трудом выходили из вагонов и тут же на перроне справляли свои естественные нужды, ни на кого не обращая внимания, все вместе, и мужчины, и женщины…
Кое-где в пустых теплушках и возле них между путями лежали еще не убранные трупы детей и взрослых, умерших в дороге. Проходя мимо одной из теплушек, я обнаружил в ней сидящего на полу человека. Обеими руками он обнимал железную печь. Я вскочил в вагон, чтобы разбудить его и помочь выйти, но это был мертвец. Окоченевшими руками он крепко держал такую же холодную, как сам, печь.
Бойцы старались не пропустить ни одного эшелона с ленинградцами, чтобы поделиться с ними своими пайками. Многие ребята отдавали все свои запасы, оставаясь голодными.
Встречи с блокадниками вызывали справедливое чувство безудержной ненависти к гитлеровским захватчикам… Бойцы своими глазами видели, что принесло с собой нашествие варваров».
Ряд госпиталей Вологды был целево рассчитан на эвакуированных ленинградцев. Зимой и весной 1942 г. из окруженного города по «Дороге жизни» было вывезено 554 186 человек. 5 149 ленинградцев, самых тяжелых – с дистрофией второй и третьей степени, с сопутствующими этому заболеваниями, обморожением были оставлены в вологодских госпиталях. Сохранить жизнь удалось не всем – около двух тысяч из них нашли последний приют в вологодской земле…

