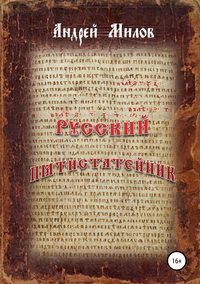полная версия
полная версияКогда ещё не столь ярко сверкала Венера
Весь тот день, как ни в чём не бывало, во дворике маячил шофёр Вася: он возился у своего свежевыкрашенного ЗИЛка, с поднятым на этот раз капотом, а в перерывах между лекциями и консультациями рассказывал всем, кто готов был слушать, как приходилось ему спорить с покойным, и при этом сыпал цифрами, прорекал перспективы развития советского общества, поносил коварных америкашек с япошками и прочее, и прочее. Его суждения были довольно-таки резки и глубоки – большая умница и эрудит, можно было подумать, этот шофёр Вася, раз такой видный учёный при жизни не гнушался общества простого человека и, по-видимому, даже набирался у него ума-разума.
Я наблюдал и слушал. Было горько и обидно. Вскоре, подумалось мне, траурную рамку с портретом снимут со стены, и “светлая память” потихоньку-помаленьку начнёт изглаживаться. Шофёр Вася наконец отремонтирует свой старенький ЗИЛок. Завершится экзаменационная сессия, пролетят летние каникулы, и придёт время нового учебного года. В аудиторию войдёт другой профессор. Задуют холодные ветра, и окна лекционного зала заклеят на зиму до следующей весны.
Отчего, думал я в сердцах, обычно умирают люди? Конечно же, от болезней сердца и нехватки нервов. Это негодяев носит земля, пока не одолеет их немощь. Потому как не переживают они ни за что, и сердце у них не болит ни о чём, кроме себя. А за хорошими людьми приходит смерть сама, причём нежданно, негаданно. Ведь смерть что беда! Две подружки. Если беда в дверь ломится, а ты гонишь её за порог – она уже в окно стучит; закроешь окна – сквозь щели сочится. Выметаешь с сором – тут же пылью оседает. И нет спасенья, нет защиты. Помня о грядущем, надо торопиться жить сейчас. Ведь недопетой песней обрывается жизнь, мыслимая в юности вечной и счастливой. Жизнь для живых, и прожить её надо так, чтобы песней она в хоре людском полнилась. А к потерям… что ж, рано или поздно человек привыкает ко всяким утратам – и смиряется, коль это не потеря самого себя.
Не стало Бориса Петровича. В тот печальный день солёные ручейки украдкой пролагали себе русло от края глаз до подбородка и ниспадали незамеченными каплями на грудь. Что, однако ж, запоздалые слёзы?! Так, пустое. Закрыта книга его жизни – перевёрнута страница в книге моей жизни. Свершилось непоправимое, горькое, но мудрое и великое таинство бытия, и я ощущал, как наступает какое-то необычайное просветление, ибо смерть суть врата в безвременье. Дорога в вечность пролегает через бренность бытия.
Остаток дня бродил по улицам средь отцветающих скверов и бульваров, и если б кто меня спросил, о чём думал-вспоминал, куда шёл, где бывал и что там делал, то вряд ли бы сумел внятно объяснить, почему легко дышал я полной грудью, подставлял ласковому ветру и солнцу лицо, отчего внимал задушевному пению птиц, а когда день сменился ночью, взирал на яркие звёзды в бесконечной вышине и напевал в пол робкого голоса никем не сочинённую мелодию. Симфонией, казалось, жизни – неповторимой и полной надежд – зазвучит та песнь, которую не оборвать на восходящей ноте. Погасли городские фонари. Под покровом ночи, совершенно разбитый, но умиротворённый, я возвращался домой, чтоб забыться крепким сном и во сне, не скупясь, уронить на подушку ещё одну горькую слезу.
Под утро раздались тяжёлые удары в наружную дверь. Бабушка, в ночной рубахе, открыла – меня за ноги выдернули из постели, повалили на пол, втоптали казёнными ботинками в дощатый пол, прямо у неё на глазах заковали в наручники и увели.
Мне следователь задавал вопросы, когда, где и что я делал – отвечал и подписывал. Всё как было – что мог вспомнить. Следователя сменил другой следователь и стал задавать вопросы про монеты, мои и профессора: что есть что, сколько стоит эта или та, где и на какие деньги… – я отвечал и подписывал. Вернулся первый следователь, и они вдвоём наперебой давай задавать мне всё новые и новые вопросы. Отвечал и подписывал, в раздражении, смешанном с ужасом и нетерпением, не чая конца очевидной нелепице. Меня не отпускали домой, хотя всякий раз, спрашивая, обещали, что этот вопрос будет последним. Наконец предъявили отпечатки пальцев, снятые с предметов в квартире профессора, какие-то люди показали, что видели меня…
Вот и всё, говорят, надо признаваться, и тем самым облегчить свою участь, снять камень с души… В чём признаться?! Да в том, что нелюдь: убил, ограбил и, заметая следы, чуть было дом не подорвал-подпалил вместе с людьми в нём живущими – и всё из-за какой-то паршивой старинной чеканки.
Когда я не знал, что отвечать, второй подсказывал – я не подписывал, а первый тяжёлым мраморным пресс-папье, обёрнутым в рулон промокашки, учил меня премудростям жизни и, начиная с азов, прямо в лоб вколачивал простейшие аксиомы. Когда же, сам изнемогая от упрямства, я утомил их своей несговорчивостью, меня отвели в красный уголок передохнуть, а заодно набраться ума-разума, и двое детин в спортивных костюмах молча пинали меня, оттачивая рукопашные приёмы, – я отмахивался, как мог. Опять повели на допрос и терзали безответными вопросами.
В голове вертелось лишь одно: прав был покойный Борис Петрович, главное в жизни – верно ставить вопросы, своевременно, и тогда ответы на них покажутся не суть как важны.
Сначала ежедневно, а затем всё реже и реже вызывали к следователю. Вскоре я потерял счёт времени и ощущение реальности.
Адвокат, которого мне назначили, уговаривала покаяться, чистосердечно во всем признаться и при этом ссылалась на какую-то договорённость с судьёй, а я-де, такой-сякой, глупый несмышлёный мальчишка, не слушаю её, сердобольную, не внимаю премудрым материнским советам и тем самым обрекаю себя. Ну, набедокурил, так имей смелость покаяться, не упрямься, так лучше будет: все всё поймут. У неё были полупрозрачные, крючковатые, дрожащие пальцы, которые ногтями вонзались в карандаш и норовили его сломать.
Я замкнулся в себе.
Адвокат, которого наняли мне папа с мамой, тоже был бессилен сладить со мной. При разговоре он своими короткими руками, с толстыми пальцами, поросшими редкой чёрной шерстью, забавно тыкал в разные стороны, и куда бы ни метил – попадал в точку по наиболее короткой, прямой линии. Моя личность, с его слов, представляла собой сгусток комплексов, в самой чаще которых скукожилось и трепыхалось насмерть перепуганное «я», к тому же терзаемое изнутри непроявленными половыми инстинктами, а потому любой укол гордости, нечаянный намёк на сокровенное или зависть вполне могли привести к маниакальному помутнению рассудка. Это «я» могло не помнить или не осознавать содеянного мною, а потому нет вины на виноватом.
И ведь ему удавалось внушать весь этот бред, его слушали, ему верили и даже в чём-то соглашались с ним. Как говорится, полная абулия.
Судили судом недолго и признали виновным – в преднамеренном убийстве и краже.
Меня видели у подъезда профессора, и мы долго и горячо спорили – сначала об экзамене, потом о монетах. Мои отпечатки пальцев найдены в его квартире. При обыске у меня в доме обнаружены монеты, и никто с достоверностью не может утверждать, что это за монеты. Нет описи, нет реестра, нет истории. По сути – бесхоз. Нельзя точно выяснить, что именно украдено и где спрятано. Моё странное поведение в целом и бегство от людей в частности – всё это красноречиво свидетельствует в пользу обвинения.
Невыносимо было глядеть в глаза людям – я смел глядеть лишь на их руки. С тех пор я ненавижу человеческие руки. По ним, по пальцам и ногтям, по косточкам и линиям на ладони, по сжатому кулаку и растопыренной кисти, я читаю точно в книге человеческих судеб. Глаза невинны, губы в улыбке растягиваются вширь, язык что помело, а руки при этом бездушно делают своё дело. Как при последней встрече сказал прокурор, каждый человек должен хорошо делать свою работу, без зазрения совести и чистыми руками. У него, действительно, руки всегда были вымыты с мылом и наготове был надушенный одеколоном носовой платок, которым, прежде чем коснуться, он имел привычку протирать предметы, затем свои руки.
Сначала я ощущал себя подавленным, потом готов был рвать и метать, затем пришло отчаяние, которое вскоре опять сменилось яростью, а перебушевав, я ощутил растерянность и бессилие. Всякий штиль рано или поздно сменяется бурей, а за бурей следует покой.
Я не мог ни спать, ни есть, задыхался, и как будто время остановилось в своём течении. Тошно. Страшно. Волком выть хочется. И жить я не хотел, и умереть не мог. Я мечтал заснуть и не проснуться. Тоска – это единственное человеческое чувство, которое от безысходности надолго поселилось у меня в груди. Я оглох, я ослеп – я прислушивался только лишь к себе, я глядел внутрь себя. И при этом я терпел.
О-о, как я терпел! И презирал…
Камера была тесная, тёмная, мрачная, с маленьким решётчатым окошечком под сводчатым потолком. Сине-серые стены с каждым днём сжимались, нависал и давил белёсый потолок. Днём с улицы едва доносились глухие отзвуки потусторонней жизни, а вечерами дважды в неделю, по вторникам и четвергам, – музыка. Напротив, за тюремными сооружениями, через дорогу парк – в парке танцевальная площадка. Теперь казалось, кто-то разместил её там словно в насмешку мне.
Я помню едва ли не каждую ноту, едва ли не каждую интонацию. Прежде, глядя оттуда на решётчатые окна тюрьмы, притаившейся за высокой кирпичной оградой с колючей проволокой кольцами поверх, думалось и говорилось всё, что угодно, но только не о том, что стены имеют свойство сходиться, а потолок ниспускаться.
Всякий раз поутру я пядями мерил ширину, затем длину и убеждался в том, что за ночь стены сошлись на вершок-другой. Я подсчитал, что если в сутки хотя бы на ноготок сокращается пространство, то за полгода его не останется вовсе, и стены раздавят меня. Я мечтал о том времени, когда стены сойдутся, чтобы, упёршись спиной и затылком в одну стену, а ногами и руками в другую, вскарабкаться вверх по отвесам и напоследок, таким образом дотянувшись до окошка, забранного решёткой, взглянуть на белый свет, где блещут краски и звуками пустой суеты полнятся меха жизни.
Я с беспокойством поглядывал на зазор между окном и сводом потолка. Почему-то мне было менее ужасно представить себя раздавленным, как таракан, нежели задохнувшимся, как рыба на берегу. Уходил воздух. Было холодно и душно. Высыпал бисером пот по телу и, сдавалось, замерзал на коже под утро… льдинки откалывались и вместе с крошками шкуры падали прямо на бетонный пол, который покрывался солёным инеем…
IV. Серый кролик
Нашего брата, зайца, например, все едят.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Здравомысленный заяц
Закатилось за горизонт солнце. В кровавое зарево, умывшись росою, окунулась полная луна, и сверкающей царицей взошла на небосклоне вечерняя зоренька. По-над сумрачными кварталами, тускло освещёнными уличными жёлтыми фонарями, густым туманом стелется музыка и отдаётся грустным эхом в густых зарослях конопли, что колосится на ветру поверх наших голов. Кажется, совсем смерклось, и уже не столь ярко мерцает Венера в окружении россыпью высыпающих на небо звёзд.
Как стемнеет, пацанва собирается во дворе за сараями на вытоптанной полянке в зарослях конопли и, рассевшись полукругом на деревянных ящиках вокруг костра, где в золе печётся картошка, рассказывает страшные истории: про чёрный-чёрный автобус, про чёрную шляпу и чёрный плащ, в который был обернут чёрный человек в чёрных сапогах, и про чёрную-пречёрную дыру во сырой земле.
Ещё было не совсем поздно: при нас малыши – и я завёл рассказ нестрашный, но так, видать, вдохновенно сказывал, будто правду говорил, и был столь непритворен, что все слушали и едва ли не до слёз верили услышанному.
– Никогда, детки мои, не ходите в лес, – наставляла малышей крольчиха-мать, – там живут лютые звери, и за каждым кустом вас поджидает смерть.
Крольчата, внимая с трепетом зловещим словам, дрожали от страха, и прутики их клетки постукивали один о другой.
– Пока вы здесь, вам ничто не грозит: ни голод, ни холод, ни хищный зверь.
Не успела крольчиха закончить свой урок, как пришёл человек. Его приходу все очень рады, потому что он вкусно и обильно кормит, чистит клетки, при этом ведёт задушевную беседу и всякий раз пестует, с нежностью поглаживая по шёрстке, а иногда, говорят, к себе в большую человеческую клетку забирает какую-нибудь престарелую крольчиху. И каждая крольчиха мечтает о том дне, когда и до неё, старой и преданной, дойдёт очередь переселиться к человеку в дом. Такой уж, выходит, добрый человек.
Человек открыл клетку, ласково потрепал за ушки крольчат, подбросил им пучок свежего клевера, а затем вдруг схватил огромной рукой за уши их крольчиху-мать да и унёс с собой. Крольчата были уже почти взрослые, но разлучаться с мамашей всё же жаль, хотя и испытывали гордость за неё, даже чуть завидовали.
А вскоре из дома стали доноситься запахи тушённого в сметане мяса, в сарае же на гвоздике появилась распятая на прутьях шкурка, что попахивала чем-то родным и очень близким.
В течение нескольких дней вирус дотоле неизвестной болезни, принявшей характер эпидемии, поразил детвору: все дружно отказались от крольчатины, причём в любом виде – жареном или тушёном, со сметаной или без. Когда же признаки поветрия стали очевидными, взрослые приступили к поискам возбудителя или, на худой конец, разносчика заразы – всё тщетно. Я, однако же, сделал выводы, свои разумеется: в сумерках за сараями в зарослях конопли я увенчал свою страшную историю счастливым концом:
– О-о! Да это же наша мама!!! Только шиворот-навыворот! – в один голос вскричали крольчата, увидев на растяжке ещё сырую шкурку.
– Да, это ваша мать, – пояснила старая чёрная крольчиха. – Вы ещё мало пожили и, наверное, не знаете, что когда умирает кроль, то человек снимает с него мех и одевает на себя, то есть принимает облик кроля. Когда же он съедает мясо, то дух умершего вселяется в человека и живёт в новом теле. Так наступает бессмертие. Со смертью вашей мамаши пришёл, наверное, и мой черёд. Эх, скорее бы! Говорят, это такое счастье!
Все с благоговением внимали речи старой чёрной крольчихи, и только лишь серенький, самый длинноухий крольчонок сомневался:
– А может, всё-таки человек убил нашу крольчиху-мать, выпотрошил и вывернул наизнанку?!
– Фу, какой неблагодарный и невоспитанный дурачок! – пожурила его умудрённая жизнью чёрная крольчиха и пояснила: – Ну, сам подумай, зачем же человеку в таком случае кормить нас, чистить клетки, ласкать, а? Нет, человек не умеет убивать – он умеет любить, потому что он очень добрый.
– Но мамы-то больше нет! И кто сказывает-то про это счастье?
– Замолчи, глупец!!! Поживёшь с моё – узнаешь.
Но с тех пор всякий раз, когда человек открывал клетку, подкладывал кролям свежескошенной травки, ласкал их, длинноухий серый крольчонок забивался в дальний угол и дрожал мелкой-мелкой дрожью под мозолистой ладонью.
Вот однажды, когда уже не было старой чёрной крольчихи, человек пришёл снова, открыл клетку, подбросил пучок свежего клевера и протянул руку – крольчонок испугался, порешив, должно быть, что на сей раз человек явился по его душу, и, под рукой выскользнув из клетки, бросился скакать вон из сарая (человек даже охнуть не успел) и до темноты просидел в зарослях бурьяна под огромным лопухом.
С сумерками серый длинноухий крольчонок что духу припустил в лес: благо, человек жил на самой окраине, у опушки.
Там же, за сараями, в зарослях конопли, и присудили немедля даровать свободу всем кроликам нашего двора. Завтра-де может быть поздно.
К счастью, скрутили замок на двери только лишь одного из сараев – дяди Миши, которого, к слову, вся детвора и не любила, и побаивалась. Звали его Полицаем. За нрав суровый и молчаливый, за то, что чужой: недавно сосед вернулся из лагерей, отсидев своё. Кое-кто, помнится, говорил: жаль, что к стенке не поставили прихвостня.
Все мы гурьбой – кто из жалости, а кто из одного только озорства – ворвались внутрь вскрытого сарая и в кромешной тьме, хихикая и млея, извлекали несчастных кроликов из клеток и выпускали на волю в заросли конопли и лопухов. Заодно разбрелись по двору и куры с утками. Отваги продолжить начинание не хватило, и мы, уже осознавая содеянное, разбежались по домам.
Раным-рано поутру дядя Миша вышел с косой во двор и на поляне между рядов сараев обнаружил свою живность, а затем уж – скрученный замок и пустые клетки. Первым почему-то он пришёл ко мне домой. Впрочем, ясно почему: донёс внучок, спасая свою задницу от ремня.
Мать была бледная от ярости и едва сдерживалась, папа суров и тоже на грани срыва, а бабушка сказала:
– Давайте поговорим.
Дядя Миша ответил:
– Давайте.
Я упрямо опустил голову и спросил у соседа:
– А вы знаете, почему удавы не кушают кроликов?
– Не дерзи! – прошипела мать белыми губами, а папа взялся за пряжку ремня, медленно начиная расстёгивать.
Дядя Миша примирительно поднял руку, и я впервые в жизни увидел на его лице улыбку.
– Так почему же? – спросил он.
– У них от кроликов изжога. Им претит жирная крольчатина, – так и сказал: «претит», и набычился, готовясь к самому худшему.
Дядя Миша рассмеялся, причём весело, звонко и беззлобно.
– Ты мне лучше расскажи, что сталось с тем серым длинноухим крольчонком, который сбежал в лес?
У папы поползли вверх брови.
– Его, – ответил с ноткой озлобленности в голосе, – разорвали голодные бродячие собаки.
– Мы компенсируем, – начал было папа.
Но сосед, не в силах вымолвить ни слова сквозь смех, душивший его, только замахал обеими руками, а потом таки выговорил:
– Это не мой… Это его крольчонок… Это из области фантазии… – Наконец отсмеявшись, он опять пристал ко мне со своими дурацкими расспросами: – А суть-то в чём? Какой, скажи мне, смысл был сбегать, чтобы тут же быть растерзанным?! Я что-то никак не могу взять в толк.
– Он был свободным, когда его съели собаки.
Дядя Миша перестал смеяться. Он подошёл ко мне, обхватил мою голову своей большой мозолистой рукой и прижал к груди.
– Хороший у вас мальчишка. Добрый.
Почему-то я не сопротивлялся, хотя остатки ершистости ещё броили в груди.
– Вы его не ругайте. Вырастет – поймёт. – И обратился ко мне: – Ну, брат, наделал ты делов, так что пошли-ка исправлять.
И вопросительно взглянул на бабушку: ничего, дескать, что одолжу внука на часок?
Вернувшись из сарая от дяди Миши, я застал бабушку с мамой на кухне за спором. Дверь в квартире была открыта: выветривался угар от сгоревшей в духовке яблочной шарлотки. Никто не заметил моего неожиданного появления.
– Я, конечно, не родная, – вразумляла бабушку мать с досадой, – но я возложила на себя большую ответственность за этого ребёнка. И люблю его как своего. Ему уже почти двенадцать лет. Пора бы повзрослеть. А вы, Катерина Алексеевна, потакаете ему буквально во всём. Он просто избалован! А я не могу проявить к нему настоящей строгости. Пора отдавать себе отчёт в том, что говоришь, что делаешь, к чему стремишься…
– Да, согласна с тобой, моя дорогая невестушка. За словами часто следуют дела, а за дела приходится отвечать… – И вдруг сплеснула руками: – Ой, не могу! Сейчас помру со смеху. Как он ответил соседу?! Крокодилы не кушают кроликов, потому что им претит жирная крольчатина, да? Так ведь и сказал, сорванец: претит! Где слову-то такому научился?!
– Не крокодилы, а удавы! – сказал я, входя на кухню.
Мир и спокойствие в нашем дворе были восстановлены. С тех пор дядя Миша уже не был чужим, он был просто соседом, причём время от времени стал захаживать к нам на кухню – к бабушке на чашку чая и ватрушки, но сама мысль предложить нам по-свойски свежей крольчатинки претила ему.
V. Блистающий мир (По – Грину)
Вы, читающие, находитесь ещё в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней.
Эдгар По. Тень
Развалить бы бетонные своды, разрушить бы каменные стены – да так, чтобы никто и никогда не сложил бы каменья заново! Я упрусь и, как из чрева матери, вырвусь на волюшку вольную – горе будет тем, кто, не родив, затолкал меня обратно, с белого света да назад в темницу.
И чувства, и мысли, и полёт воображения – я помню всё, что было давно и недавно, но, кажется, уже не со мной, а если и со мной, то совершенно в иной юдоли.
Человек сходит с ума от запертых в голове мыслей. Протухают, загнивают в спёртом пространстве думы и, не находя выхода, путами обвивают и душат – разум. Удерживает от полного помешательства бездушный надзиратель всего лишь куцым словом да взглядом угрюмым. Если вцепиться ему зубами в глотку так, чтобы живьём не оторвали, то пришёл бы долгожданный миг свободы, когда померкнет свет в голове, и ты станешь вольным от неволи. Тебе размозжат черепушку, и не будешь ты мучительно гадать: сгниёшь ли, сгоришь или замёрзнешь, задохнёшься ли, раздавят сошедшиеся стены или расплющит потолок, упавший долу? Содеется днём или ночью?! Но тюремщик на то и тюремщик, что ему ведома вся безжалостная правда о жалком бытие, называемом здесь жизнью. Он дорожит тем, что отпущено ему, – своим существованием, суть которого в безраздельной власти над смертными. Он сторонится.
Безумен он – не я… я пядями меряю стены и складываю воедино воспоминания. Припомнив кряду несколько страниц из иной книги жизни, той ещё, так и недочитанной, я ловлю себя на мысли, что ничего не понимаю из того, что писано между строк. Абрисы призраками брезжат вдали, за окоёмом, и взгляд близоруко плывёт по страницам, из видений складываются пустотелые образы, смысл и значение которых мреют за гранью сознания. Откуда-то вырастают тени и рождаются звуки, которых нет и быть не может. Камера полнится голосами. То чужие злые мысли слышатся – вслух.
Мысль о блистающем мире по ту сторону решётки как запретный плод манит, и жулит лукавым искусом воображение. Хоть на одну ночь, хоть на час отрешиться – и забыться бы глубоким беспробудным сном, чтобы проснуться уже в ином мире! Мешают, однако, навязчивые мысли. Мысли ни о чём! Даже не мысли, а так, нелепицы заумь. Может статься, виной тому всё тот же струящийся лунный свет.
Смерклось, и, взойдя на небосклона эшафот, зардел стыдливо месяц, простирая сквозь решётку бледную дрожащую длань. Сумрак ожил тенями, мнятся средь мрачной камеры хмурые безликие тени за спиной. В кругу подлунного света расширяется эфир.
Лунная дорожка из неволи на волю проложила путь к свободе чувств. Блистающий мир манил и притягивал.
«Вор должен сидеть в тюрьме, и тогда никто не посмеет спросить, кто своровал, ибо узника бессмысленно пытать, а что украл и где зарыл. Разве что безумец сам заговорит, но только безумец и поверит безумным словам. Сумасшедшие не говорят с разумными, как мёртвые не каются перед живыми. А посему туда ему и дорога! В тюрьму. Лучше – в сумасшедший дом. Ещё лучше – во сыру землю. Мёртвый вор – истый вор», – так думал он, глядя на загадочный профиль прекрасного лика незнакомки, вошедшей в его кабинет.
Она, верно, смущена. Вся в сомнениях, робостью томима. Тонкие умеренные черты выразительны. Очаровательная голубая жилка нервно пульсирует у виска. В осанке, в жестах, во взгляде ощущается, однако ж, норов и сила. Неспроста…
Да какая там загадка! Известно наперёд – одно и то же, до оскомины однообразное. Мандель!
Уже предательски вздымается грудь, выдавая едва скрываемую страсть. Поведёт бровью, чуть округлив глаза, взмахнёт крылами ресниц – и умолит доступностью своей неприступной вершины?
Не на того напала, прошмандовка!!!
Довлеет ему обхватить её, встряхнуть так, чтоб дух гордыни выметнулся из корсажа, да швырнуть на диван и, задрав пышную юбку, взять силой то, ради чего, сама не чая, заявилась сюда. Михирь вмиг собьёт с неё всю спесь, и повадна будет: униженная и оскорблённая, уйдёт она с мучительным чувством брезгливости к своему поруганному телу… но уже на следующий день, воздев гордо кверху свой припудренный носик, она вернётся с тлеющим огоньком в томном взгляде, чтобы снова невольно покориться.
Ему не этого хотелось, ему не это было нужно. Ему недоставало страсти, его возбуждающей страсти. В соблазнительной тиши кабинета обворожительные черты лица и угадывающиеся под покровом нарядов формы обещали восхитительные прелести молодого тела, которое способно изнурять – пока страсть не угаснет. А иссякнут позывы скоро. Если не через пять минут, так через час; если не сейчас, так через день или два. Как только глаз привыкнет, а воображение не возбудится вновь – ослепительная красота поблекнет, и проступят родовые изъяны. Всё как обычно. Едва воспалит – и уже наскучит. Вот только в зелени глаз чудится одержимость, мнится негасимый огонь. Зелень глаз манит, завлекая глубиной да сочностью необычных красок. Обещает взгляд нечто смутное, таинственное… В изломе норовисто приподнята бровь. Голубая жилка, завораживая, бьётся у виска; завиток за ушком, подрагивая, отвлекает.