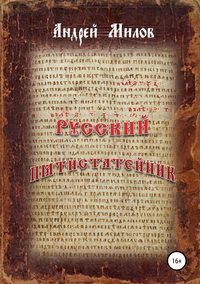полная версия
полная версияКогда ещё не столь ярко сверкала Венера
Жена запнулась, глядя, как муж её, то есть вы, Евгений Фомич, забросив ноги на спинку дивана, развалился и вперился в экран телевизора.
– Кофе будешь?
Вы не отвечаете, а потом вдруг:
– Здорово!
А на экране телевизора – ливневые дожди, наводнение где-то то ли в Индии, то ли в Китае; ураган, вздымающий океанические волны, гнущий долу пальмы на побережье; перевёрнутые машины, поваленные деревья, дома без кровли и всюду мусор, обломки, трупы животных… – кошмар.
– Как думаешь, наш-то флюгер выдюжит этакой ветерок, а? – И вы задорно рассмеялись своей шутке, чересчур залившись смехом, пожалуй даже, натужно. Вам всё ещё было не по себе. И это было очевидно. Вот вы и пыжились.
Жена стояла у вас в головах, смотря сверху вниз, – и её плечи всё ниже и ниже поникали, невольно опускались долу руки. Она, как и Любочка давеча, хотела что-то сказать вам, но лишь приоткрыла было рот и через мгновение молча вздохнула, стиснув зубы, а губы растянулись то ли в улыбке, то ли в оскале. Развернулась кругом, бесшумно побрела на кухню. «Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь…», – доносилось из одной комнаты, из другой – прогноз погоды. Включила воду, взяла со стола грязную тарелку, неловко скользнули пальцы – и тарелка вылетела из рук… зацепила боковушку стола, разлетелась осколками по полу. Она, должно быть целую минуту, стояла в задумчивости над вдребезги разбитой тарелкой, как будто не тарелка разбилась, а нечто неизмеримо большее.
И вдруг у вашей жены плечи распрямились, морщины на лице разгладились, глаза блеснули молнией. Она заметалась по кухне, шагами меряя взад-вперёд крохотное пространство с очевидным намерением ухватить что-нибудь этакое большое, увесистое, да и грохнуть что силы об пол, – повернула ручку радио до упора, прислушалась, не окликнут ли её, перекрывая монотонный голос диктора… Так и застыла посреди кухни – руки в боки, ноги вширь.
– Ты чего это?! – Вслед за вопросом вы, Евгений Фомич, собственной персоной объявились в проёме двери, поглазели безмолвно на жену и, не дождавшись ответа, выдернули вилку радио из розетки. – Ну чего ты?!
Магнитофон в детской тоже запнулся, не допев своей песни.
– Папа, что там? – из-за приоткрытой двери раздался удивлённый голос.
– А чёрт её знает! – И пошли вы прочь, бормоча в ответ так, чтобы никто, кроме вас, не слышал: – Чумная какая-то сегодня. С придурью, наверное, у тебя мама…
Вот, пожалуй, и всё: жена взяла в руку веник и смиренно принялась за уборку, нет-нет да и вздыхая между делом, горько-прегорько. Стало быть, ещё один день благополучно прожит. И слава богу, ну его!
Мир вокруг был прежний, но только, казалось, отчего-то перевернулся вокруг своей оси.
***
В пятницу вечером, сумрачным и тёмным, горбатый «Москвичок» приткнулся к поваленному бетонному столбу напротив боковой калитки, ведущей на территорию городской больницы.
– Приветик! – Не минуло и пяти минут ожидания, как, невесть откуда взявшись, Любочка впорхнула во чрево его верного горбунка и как ни в чём не бывало с ухмылкой ему: – Чего стоим? – беззаботно щебечет: – Ну, трогай. Вперёд поехали.
Не то чтобы Евгений Фомич смутился фамильярности в обращении с собой, – конечно же нет: не потому, а, скорее, от неожиданности перехватило дух, и он оторопело заморгал своими маленькими припухшими глазками, засопел от неловкости и давай оправдываться, почему он здесь да отчего в такой час.
***
Ай да вы! Ай да Евгений Фомич! Тот ещё хитрец!!! Губы в трубочку, брови домиком – само изумление на лице. Молодец, вполне правдоподобная изобразилась гримаса. Только напрасно не посмели вы признаться, что за оказия приткнула ваш «Москвичок» к поваленному столбу в неурочный час. Было бы проще объясняться.
Любочка, тоже не промах, напустила на себя доверчивый вид: ну да, вы подвозили – бывает! – кого-то с работы проведать то ли жену, то ли тёщу… Кстати добавить, не только сегодня, но и вчера, в четверг. Но лично вас-де все эти больничные ужасы (тьфу-тьфу-тьфу – трижды через левое плечо) не касаются. Слава богу, сами вы, дескать, вполне-вполне…
***
Любочка, однако ж, недолго слушала его путаные байки.
– Ну, поехали же, в самом деле! – позволила себе капризные нотки и огорошила: – Сегодня нам не по пути. Мне надо вон туда!
Куда указала пальчиком, туда, послушный её воле, покатился «Москвичок» – неровной рысью, сердито фыркая, в объезд больницы по бездорожью. Мысли в тряске разметались что волосы на ветру. Сердце то падало, то взмывало. На щеках выступил румянец.
– Люба, я всё хотел спросить, – едва колёса почувствовали под собой более-менее плоский лоскуток дороги и перестало так трясти, Евгений Фомич отчаялся задать давно мучивший его вопрос, – каким духом занесло вас на похороны?
– Меня? На похороны?! – Изумилась Любочка, сверкнув белками. Наморщила лобик – вот дурацкая привычка! – и тут же, оскалив белые зубки в доверчивой улыбке, вспомнила: – Ах! Дяди Вани, что ль, похороны?
– Д…дя-ди?! – Невольно заикнулся и затаил дыхание. Машину тряхануло. – Чёртовы кочки!
– Да, почки… Дядя Ваня мучился почками в последний свой год.
Огибая по замысловатой кривой больничный городок, «Москвичок» вторгся в хрущёбы жилой застройки, непосредственно прилегающей к больнице, и заметался, послушный движению пальчика с изогнутым коготком, в густой сети проулков. Под колёса устремился пусть латаный, но всё ж таки асфальт.
– Так я же с мужем там была. С бывшим мужем, – сказала и наивным глазом не моргнула. – Его дедушка всегда ко мне благоволил. Он так и не знает, что мы с мужем расстались. Муж не хотел огорчать его. Я тоже пожалела старика.
Евгений Фомич ехал и дороги не видел, слушал и ничего не понимал.
– Я ведь Полухина, по мужу. Дед мужа был дружен с дядей Ваней, даже родствен.
– Х-а, – выдохнул, то ли хохотнул истерически, Евгений Фомич, – а я-то подумал!
– А вы?
Что – «а вы?» – за нелепый вопрос?!
– Я видел вас там. Вы алые гвоздики положили на могилу. – Наверное, тут Евгений Фомич вспомнил и то, как чуть было не оконфузился, когда поскользнулся у могилы, едва не свалившись вслед за гробом в яму. В смятении он поспешил заговорить неприятное воспоминание: – Дядя Иван – это батя. Он мой отчим и дядя родной. Он воспитывал меня как отец.
Ежели б не знала, то, наверное, она тоже ничего бы не поняла из сказанного.
– Правда?! – Любочка захлопала в ладоши. – Вот так да́! Седьмая, значит, вода на киселе?
Евгений Фомич умолк и погрузился в неглубокие раздумья. Он не знал, что и подумать. Меж тем Любочка указывала дорогу, где налево и где направо, и толковала без умолку, какой, дескать, замечательный старикан Полухин. Евгений Фомич слушал и перебирал ногами педали да руль в руках вертел – так модница теребит новую шляпку перед зеркалом, а думает совершенно об ином.
***
Морщите, морщите свой могучий лоб! Да мозги перетряхните, сдув с них пыль! Расправьте извилины. Ну как, вспоминается, нет?
Около трёх пополуночи глубокую сонную тишину вашей квартиры прорезали тревожно-настойчивые звонки – какие-то уж больно резкие, короткие, словно нетерпеливые. Рука потянулась к будильнику и сама отдёрнулась. Телефон, вы догадались, и чертыхнулись спросонок.
Вы босиком прошлёпали в коридор. Телефон пронзительно трезвонил, а вы всё мешкали, ероша свалявшиеся в мелкие седеющие кучеряшки волосы и оправляя кургузо сморщившуюся поперечными складками майку на заметно округлившемся за последний год брюшке. Из полосатых семейных трусов торчали худые кривые ножки.
– Слушаю, – сонно пробурчали в трубку, откашлялись, отгоняя дрёму, и для ясности зачем-то уточнили зычным голосом: – Кривонос у телефона. Алло?! – И вдруг надолго притихли, как-то весь обмякли, поникли: – Да… Да… Конечно, я буду, – бормотали вы в трубку телефона. – Да, отстучи на всякий случай телеграмму. Мало ли что на работе?! Нет, заверять не надо… Поездом. Так надёжнее… Нет, не беспокойся зря. Встречать не надо. Я сам доберусь…
Никто, разумеется из близких, не встречал вас на перроне вокзала – не до вас в сей скорбный час.
Катафалк ждали к полудню.
Чем ближе к назначенному времени, тем плотнее набивались в квартиру скорбящие – люди в основном преклонного возраста. Заходили, узнавали старых знакомых и сдержанно кивали одуванчиковыми головами, неловко мыча под нос себе невнятное приветствие. Не принято желать здравия у гроба.
В большой комнате на табуретках был установлен гроб покойного, лицо которого уже тронули лиловые отметины. Воздух в квартире, по обычаю наглухо закупоренной и зашторенной, был спёрт, с особенным зловонным душком. Когда открывались двери, чтобы впустить в дом очередного скорбящего, из коридора от соседей просачивались ароматы приготовляемой к поминкам пищи. И вас, Евгений Фомич, начинало мутить. Вы втайне – не так ли? – уже успели пожалеть, что по собственному недомыслию или стеснению отклонили предложение перекусить с дороги. Попросить у Светланы, жены брата, стаканчик чайку с бутербродом – теперь уж неуместно и неудобно. Ожидать, будто кто-нибудь в этой скорбной суматохе побеспокоится о вашем желудке, конечно же, не приходилось. Вот вы, побледневший, и стояли так, переминаясь с ноги на ногу, и терпели, и, наверное в десятый раз, слушали рассказ о том, как дядя Иван в пятницу вечером с аппетитом поужинал, посмотрел телевизор, включил приёмник и уже укладывался спать чуть позже обычного, как его начало томить. Вроде бы и не так чтобы уж совсем худо стало, но не отпускало. Скорая помощь приехала минут через сорок после вызова – констатировать смерть от сердечного приступа, так что дядя Иван, можно сказать, скончался прямо на руках у Светланы. А муж её, то есть сын покойного, ваш двоюродный братец Вовик, в ночную работал. Как назло.
Не самый тяжёлый конец. Но в устах старичков да старушек, со множеством подробностей, этот нескончаемый пересказ звучал прямо-таки удручающе: за словами и вздохами, очевидно, стояла одна мысль – мысль о собственной участи, скорой и неизбежной. Холодная испарина бусинками покрыла чело, ноги будто в пол вросли, глаза застлало мерцающим туманцем. Сердечко невольно щемило занозистым раскаянием. Вроде бы и не в чем раскаиваться теперь, а оно, глупое, все равно щемит и млеет. Эта расползающаяся в груди бессильная жалость, обида на несправедливое мироустройство никак не могла, однако ж, заглушить неутомимого червячка бдение в желудке – тоже не знающем жалости, не ведающем стыда. Катафалк опаздывал, приближался привычный час обеда, и в животе немилосердно сосало. Наконец вы почувствовали, как то ли засыпаете, то ли теряете сознание, и медленно бочком-бочком двинулись к выходу в наружный коридор, а оттуда во двор – на свежий воздух.
Вы вряд ли задумывались о немощах чужих, раз самому не по себе было, – вы под ноги глядели, себе под ноги, лишь бы только не видеть полуузнаваемых-полузабытых лиц. В проёме двери, ведущей из коридора во двор, застрял высокий худой старик в истоптанных бахилах. Старик был плох: глуховат, подслеповат, с баночкой в кармане, но на ногах держался крепко. В старческих чертах лица за морщинами и пятнами смутно угадывалось нечто знакомое, однако ж не настолько знакомое, чтобы в теперешнем изуродованном немощами и годами облике узнать одного из тех бравых, кто лет так тридцать с хвостиком тому назад имел правило частенько забредать под крышу сего гостеприимного дома, с неизменными гостинцами и чуть грубоватыми ласками.
– Извините, – вы сказали. Не здравия желать же?!
Со спины подпёрла вас горбатая старуха, спешащая на помощь старику. Вас зажали, как кусок варёной колбасы меж двух ломтей хлеба, – назад не отступишь, вперёд не пройдёшь. И начали поедать, точно бутерброд с голодухи. Старик прошамкал, рассеянно глядя поверх макушки вашей куда-то вдаль, в полутёмный коридор: уж не тот ли это, старший и блудный, Иванов – пусть земля ему будет пухом – сынок, почитай? Тот самый, который приёмыш, – ответила старуха сзади. И наперебой они принялись охать и ахать, выражая тем самым свои глубочайшие сожаления. Это о вас шла речь. Вы не сразу, с опозданием поняли, о ком.
– Женечка. Забавный мальчишкой был, – гундосила старуха. – Вечно карманы всякой дрянью набиты. Камушками да стёклышками. Анюты сыночек.
– Анютка давеча сказывала, что медсестра наша, Полина…
– Фу ты! – старуха возвысила голос и фыркнула, притопнув ногой, будто сплюнула в сердцах. – Экой ты, Тиша, в самом деле?! Не о том ты. Мы об Анюте, сестре Ниночки. Вечно всё перепутаешь.
Старик, – стало быть, Тихон, – заакал беззубым ртом.
– Как и где – неведомо. Пошла Анюта за водой на колодец и не вернулась. Бесследно сгинула, бедная. Вечерело как раз, а тут прямо с неба – бомбы посыпались…
– Мессеры тройками. Стригли, прижавшись к земле. Полосой так и выстригли, почитай, треть города скосили за четверть часа…
– Ниночка Вовкою была тяжела. Приютила племянничка малого. Как родного. Потому и под немцами осталась, когда те в город вошли.
– Иван колченогим вернулся. Почитай, что ребёнком беспомощным.
– А Фома пропал, ни весточки, ни слуху ни духу…
Гнусавые и дребезжащие, словно бы с хвостиками, изогнутые на концах, слова-горошинки сливались воедино – куда тут уху различить, где голос женский, где мужской. Разом говорили старик со старухой, дуэтом на два голоса втолковывали вам и перевирали на ходу вашу ближайшую родословную. Вы кивали головой, якобы то же помните, и чувствовали себя глупее не придумаешь. Нетерпеливо переминались с ноги на ногу, поводили бровями, разве что зубами не скрежетали, но переносили стоически. А как же иначе, если от природы своей вы всегда со всеми вежливы да тактичны?
– Иван на что уж бравый, а до последнего своего часа пуще смерти боялся белых халатов. При виде шприца он вот такими вот слезами горючими заливался…
Меж тем чьи-то руки отворили вторую створку дверей, подвинули старика в сторону – и со двора в коридор внесли венки. За спинами вновь прибывающих к гробу вы юркнули в узкую щель между косяком и чьей-то фигурой в проёме. Бежали в суматохе. И правильно, скажу я, поступили.
Накрапывал дождик. Было свежо. Стрелки на часах показывали первый час. Направляясь по адресу, катафалк был где-то на подъезде.
Ну, вспомнили? Который Тихон, тот и есть старик Полухин! О нём Любочка помянула вскользь.
***
И в самом деле, до Любочкиной, как она выразилась, хаты, то есть дома, было рукой подать: минут двадцать небыстрой езды. Беда вот только – дорога совсем никудышная. Если б не напрямик, а вкругаля да по добротному асфальту, то вышло бы быстрее и приятнее, а так что – одна морока.
Вот Любочка клюнула его ноготком в коленку и взглядом указала место остановки. В окружении тополей – сплошные хрущёбы, серые и обшарпанные. Кое-где на ободранных балконах рябит подсыхающее бельё. За помойкой на плешивом бугре выросла одинокая безрадостно-белёсая башня, дальше – новостройка.
Евгений Фомич не мог не почувствовать уныния, сосущего взахлёб изнутри, при мысли, что Любочка сейчас шустрым воробышком выпорхнет из его антикварной клетки на колёсах и скроется в подъезде дома. Быть может, там муж её ждёт. В висках – тик-так, тик-так – отсчитывает пульс безмолвные секунды перед расставаньем. В бесконечность тянется и высоко дребезжит перетянутая жилка нервов, с надёжно притороченной к концу судьбой-секирой: лопнет жилка – ухнет безжалостный нож.
Всегда такой осторожный и выдержанный, Евгений Фомич был верен себе и волей подавлял всякие смутные души порывы, а борьба чувств искажала черты лица.
Любочка нетерпеливая. Выручила, спасла неловкое мгновение. Нарушив затянувшееся молчание, она сказала и сама потупилась:
– С вами, Женя, и просто, и легко.
Глуповатая улыбка наползла на лицо и исказила напряжённые черты гримасой сомнения. Быть может, Евгений Фомич ждал, что волоокая подумает чуток и добавит после кокетливой паузы, – мол, как с отцом, как со старшим братом или же, что ещё нелепее, с пудовой гирей в дамской сумочке. Обронит слово между прочим и лукаво рассмеётся.
Но нет, не посмеялась Любочка, а весьма серьёзно и чуточку смущённо заключила:
– Правда, спасибо вам за всё. И извините, ради бога, если чем обидела.
Почему извините?! Чем обидела?! Как спасибо?! Несколько скоротечных мгновений будто выпали из дотоле размеренного, плавного хода его жизни. Сам он проваливался невесть куда – увязал по самые уши. Он что-то несусветное лепетал, не сознавая – что именно, ну а когда осознал наконец, что способен здраво мыслить, то Любочка, увы, уже покидала чрево его утлого «Москвичка». В ушах шелестели призвуком её эфирные слова, почему-то ласково-грустные, – да и её ли то слова были?!
– До завтра! – слышалось ему. – В три часа, у столба… Привет семье…
И уплыла. Как в ночном тумане, растворилась, воздушная, в тусклом голубовато-белёсом свете, клином ниспадающем от одноглазого фонаря на ноздреватый асфальт у подножия башни. Бухнула дверь подъезда.
«При чём здесь – привет семье?» – в отчаянии подумал он, и уронил седую голову на руки, судорожно обвившие обод руля: руби секира голову повинную. Вроде бы вырвался из груди тяжкий протяжный стон. Сердце и не стучало, и не замирало; оно плавало в груди: взметалось пузырьком воздуха к горлу вверх – вниз к пяткам камнем падало. Что это, в самом деле, было?! Словно через ватные катышки в ушах он слышал запоздало: «Люба…» – «Вы, Женя, как юноша смущаетесь». – «Едем завтра на озеро? Оно синее в ясную погоду. Сами увидите…» – «Нет-нет! Что вы? Я не могу. Я ремонт дома затеяла». – «Это рядом. И получаса не займёт. А потом, если вы не против, я помогу с ремонтом». – «Да? Ну разве что поможете. С ремонтом. Только ведь вы всё равно обманете!» – «Почему я обману?!» – «Поживём – увидим. Но только не с утра. У меня выходной. Надо выспаться».
А может, просто пошутила? «Завтра в три часа», – и сбежала, озорная. Да нет же, нет: шутят не так, по-другому! И верилось, и не верилось.
***
Я уж было переполошился, не сердечко ль часом прихватило, ведь сами-то рассудите: вы без малого минут тридцать вот так недвижимо и просидели, уткнувшись лбом в руки на руле. Эко скрючило! Ещё чуть-чуть, и я б воззвал к милосердию скорой помощи. Ан нет! Внезапно вы распрямились, ровно мороженый китовый ус в тепле, да и пустили своего доходягу рысака в разгон. Куда тут угнаться за вами?! Не ожидал. Право, не ожидал этакой прыти от ветхой колымаги.
Лихач, однако ж, вы, Евгений Фомич, когда изнутри защемит вас по-молодецки сердечная тоска – и, пожалуй, давно уже гложет.
Ну а синее озеро – это ещё что за причуда?! Неужели нельзя было выдумать чего-либо попроще – поприземлённее? Впрочем, что бы ни делалось, по мне – так лишь бы на корысть делу. Чтоб впрок пошло.
– Вот олухи царя небесного! – ещё получасом спустя распинались вы, когда жена поставила перед вами на кухонный столик ужин. – У них для меня восемь дней в неделе, и все красные! Я один за всех паши, за всех думай, точно раб многоклеточный. Ведь предупреждал Александру Ивановну! Это начальник планового отдела. Если она в зарплате лишает женщину четвертака, скандала не миновать. И двух дней не минуло, как девочки почти всем отделом ввалились ко мне в кабинет. Визг стоял – слова ввернуть не мог. Потом втолковываю: голубки вы мои, я б вам сам доплачивал, да вот загвоздка – зарплата не позволяет. Но твёрдо обещаю: в главке выступлю – ребром поставлю вопрос о бригадном подряде. Что, думаете, сам не понимаю?! Да правы вы, сто раз правы! Дайте только время. Гляжу, потеплели глазки, помягчели тона, – короче, пошёл разговор по душам. Договорились, 30% – за сверхурочную работу, 50% – в ночное время. Александра Ивановна дала добро сроком на три месяца. Потом, говорю ей, вернёмся к вопросу: либо бригадный подряд, либо полный штат. В общем, разрулил…
За ужином вы распространялись и углублялись в тонкости, говорили с жаром о том, о чём обычно скучно толковать с неразумной бабой, ни бельмеса не смыслящей в делах. Негодование на чью-то нерадивость и бестолковость рвалось наружу. Не унять потока слов. В глазах едва не слёзы стояли, лоб задумчивой складкой прорезали морщины. Давно не видала вас жена таким… таким окрылённым: как будто бы вы птица, что из клетки вырвалась на волю и воспарила в высоком полёте. Неужели в самом деле засиделись, закисли – и вдруг перед вами открылись просторы?! А там, в вышине, сеть небесная незримым куполом ограничила полёт, и вы трепещете, вы бьётесь о пределы… Вы взялись за настоящее дело, за своё дело. Вкус к жизни почувствовали, враз с десяток годков стряхнув с себя… даже животик, кажется, подспустился.
Жена присела рядом, в краюшек стола упёрла локоть, подбородок положила на ладонь и только задумчиво охала да ахала, с умиленьем вглядываясь в ожившее лицо мужа. Вас отнюдь не смущало её пристальное внимание. Напротив, льстило. Вы чувствовали себя мужчиной – сильным и умным. Заботило вас иное.
– У меня сейчас, к примеру, из 19 новых машин – 13 на приколе. Там потекло, тут лопнуло, где-то не дотянули – где-то перетянули, что открутилось, а что отвалилось. Сначала надо было на яму, а потом уже на маршрут, и затем опять на протяжечку. Так нет же, всё наоборот, всё шиворот-навыворот. Вот и прохлаждаются теперь. Бестолочь! Завтра, после обеда, нагряну в парк – завертятся они все как жареные на сковороде!
То, что вы болтун, я знал давно, ещё когда впервые встретился с вами (помните, нет? – впрочем, вряд ли! – и слава богу, не надо терзать память, ни к чему: я подскажу), но то, что вы расчётливый говорун, да к тому ещё и лицедей отменный, – это для меня новость. Намотаю на ус. Кстати, а ну как жена позвонит на работу?!
Не сомневаюсь, выкрутитесь. Какое, собственно, мне дело до ваших семейных неурядиц?! Сами разберётесь. Моё дело – сторона. Лишь бы спорилось. А там хоть трын-трава не расти.
***
Когда б кто Любочке сказал, будто то синее озеро, куда накануне ангажировал её Евгений Фомич, суть заурядный, грязный пруд в кольце асфальтированной набережной, она бы просто-напросто не поверила. Ей-ей, ни за что бы не поверила! Не в ресторан, не в театр или музей – к огромной сточной яме зазвал её ухажёр. А она-то себе бог весть что вообразила.
Загазованное шоссе, открытое всем ветрам. По левую руку – многоэтажная застройка, пыльная и до уныния однообразная, по правую – обшарпанные пятиэтажки, утонувшие в сырой тени четвертьвековых тополей. Кинотеатр, универсам, палатки: мороженое, газеты, сигареты. И вот там-то, чтобы хоть чуть скрасить всё это убожество, разбит небольшой скверик, внутри которого словно бы кто выгрыз щербатую ёмкость под лужу-пруд. Чуть в стороне – остатки берёзовой рощицы, ещё дальше пустырь, ЛЭП и зачатки новостройки.
Светило солнце, и на удивление ясное небо, отражаясь в гладких водах, в самом деле подсинило их – это если глядеть издалека, с возвышенности. Непуганые утки попрошайничали у воды, тут же горе-рыбаки с удочками, на лавочках молодые мамаши с колясками да бабули с дедулями, рядом нахальные воробьи и голуби в борьбе за крохи хлеба, мальчишки на велосипедах, дамы с собачками на поводках, бесконечный поток мешочников на незарастающей народной тропе, проложенной от жилых домов к универсаму и обратно, а посередь всей этой безобразной толчеи – Евгений Фомич и Любочка. Бок о бок, плечо к плечу, прохаживаются и воркуют – странная с виду пара. Чудная семейка только-только вышла на прогулку – послеобеденный, может статься, моцион. Глупее сцены, ни дать ни взять, не придумаешь.
***
Ну так что, Евгений Фомич, с этой грязной лужей, стало быть, у вас связаны какие-то очень глубокие впечатления, которыми вам не терпится поделиться с Любочкой, да? Но ведь нет, ни о чём подобном вы и словом не обмолвились. Должно быть, просто причуда какая. Бзик! Да и что бы тут ни было когда, всё теперь пустое: отныне ваше место у столба, к нему, к поваленному столбу у калитки, надолго будут пришпилены ваши воспоминания и впечатления. Поверьте мне. Я постараюсь не разочаровать вас.
***
– Женя, – вкрадчиво воркует Любочка, – мне кажется, я вас ведь видела на кладбище?
– И я вас. Как будто бы сейчас это было, – с налётом этакой задумчивости вторит ей Евгений Фомич и ерошит волосы.
– Надо же, как случается?!
После недолгой заминки, заглядывая ей украдкой в лицо, сам спрашивает, чуть-чуть смущаясь:
– То муж ваш был?
– Муж.
– Бывший?
– Муж. Бывший, – то ли повторяет вслед за ним его слова, то ли отвечает на вопрос она.
– Кто он?
– Милиционер.
– Нет, я серьёзно.
– И я серьёзно. Милиционер.
– Не похож.
– Он не обычный милиционер. И в чине не маленьком.
– Я не понял.
– Неважно. Служба, в общем, у него такая. Посерьёзней, нежели у дядя Вани. Это у них семейное. У всех. Гены.