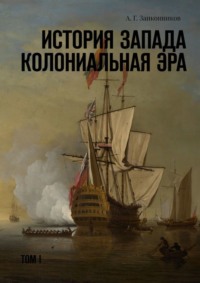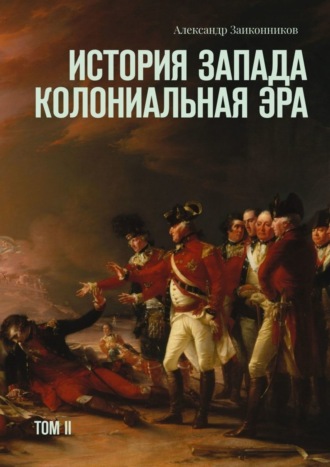
Полная версия
История Запада. Колониальная эра. Том II
Рук также неудачно действовал против Кадиса – главной морской торговой базы Испании, к которой он отправился в самом начале войны. Однако из тактической невзрачности Рука, который, повторим, считается лучшим английским адмиралом Войны за испанское наследство, не следует, что это был плохой адмирал. Как морской стратег он был значительно лучше, чем как тактик и именно его действиям Англия обязана приобретением таких стратегически важных форпостов в Средиземноморье как Гибралтар и Маон. По большей части именно адмиралу Руку Англия обязана вступлением в Войну за испанское наследство Португалии, а также важными торговыми преференциями, полученными от Португалии. Эти преференции, после того как война закончилась, в буквальном смысле озолотили британский торгово-промышленный класс.
В чем состояли причины стратегических побед Рука? Однозначно не в силе английского флота, а в отсутствии у него достойных соперников и также, в умении англичан использовать этот факт. Казалось, что в самом характере английской нации скрывалось понимание того, что такое флот и как этот флот должен действовать, чтобы выгода от его существования была максимальной. Английская стратегическая доктрина, облаченная в чеканную формулировку адмирала Торрингтона – «Fleet in being», подразумевала, что сила флота покоится на одном лишь факте его существования. Если морская сила не скомпенсирована силами противодействующих ей сторон, то независимо от того, насколько она хороша, или плоха, эта сила становится самостоятельным политическим фактором и ключом к успешному разрешению стратегических и геополитических задач. Успехи англичан в Войне за испанское наследство и исключительно благоприятные для Англии результаты этой войны, следует приписать факту существования именно такой нескомпенсированной морской силы. Именно существованию, а не ее практическому действию и тем более не ее состоянию, по-правде говоря, далеко не идеальному.
Нет смысла описывать все сухопутные кампании, которые воюющие стороны разыгрывали между собой за долгие 13 лет войны. Отметим только то, что Франция оказалась не готовой не только к боевым действиям на море, но и к боевым действиям на суше. Сухопутные войска союзников на этот раз оказались в руках талантливых военных предводителей. Наибольшей известности среди них добились английский герцог Мальборо и австрийский полководец Евгений Савойский.
Принц Евгений Савойский приходился племянником кардиналу Мазарини. Во Франции ему была уготована церковная карьера, но сердце молодого человека без остатка принадлежало войне и оружию. Не имея возможности проявить себя на военной стезе у Людовика XIV, Евгений перебрался к его противнику – австрийскому императору. Со временем, приобретя драгоценный боевой опыт в сражениях с турками и в войне Аугсбургской лиги, Евгений Савойский стал замечательным полководцем. На равной ступени с Евгением Савойским из французов стояли в те времена, разве что маршал де Виллар и маршал Вандом.
Джон Черчилль 1-ый герцог Мальборо, получил место командующего союзными войсками по протекции. Дело в том, что его супруга находилась на равной ноге с королевой Анной. Женщины дружили и при личном общении, а также в переписке, обходились без титулов. Тем не менее, это был тот случай, когда протекция сыграла положительную роль. Герцог Мальборо, как и его супруга был горд, властолюбив и заносчив, но он оказался весьма способен как полководец и при равных условиях неизменно выигрывал у французов.
Начальная фаза Войны за испанское наследство оказалась крайне неудачной для Людовика. Завершилась эта фаза 13 августа 1704 года сражением при Бленхейме, которое подвело черту под военными усилиями французов, австрийцев и англичан в Германии. Баварский союзник Людовика XIV был выведен из войны, возникла угроза переноса боевых действий на территорию непосредственно самой Франции. Но эта угроза, если не считать неудачной осады в 1707 году Тулона, не была реализована. Военные действия в Европе разбились на серию имевших неопределенные результаты, но при этом весьма кровопролитных сражений в Италии, Фландрии и Испании. Союзники попытались завоевать последнюю для своего кандидата на испанский престол – Карла III Габсбурга. Однако решающее значение для послевоенного баланса сил имели вовсе не эти сражения, а действия адмирала Рука.
Формально изменение позиции Англии относительно французского кандидата на испанский престол оказалось связано с тем, что после смерти Якова II Стюарта, французский король признал права на английский престол за сыном последнего, молодым Яковом III. В ответ на этот недружественный шаг, правительство королевы Анны отказало в признании испанским королем внуку Людовика, и признало в указанном качестве австрийского претендента. Стремление прогнать из Испании Филиппа V Бурбона, чтобы силой посадить на его место Карла III Габсбурга (брата австрийского императора Иосифа I), предопределило перенос центра тяжести военных усилий союзников на территорию Испании. Английский флот адмирала Рука в активную фазу этой войны, оказался, таким образом, связан необходимостью поддержки Карла III на Пиренейском полуострове. По этой причине, англичане не сумели предпринять решительных шагов по захвату испанских колоний, как планировали изначально. Зато Англия, воспользовавшись моментом, сумела приобрести (и удержать за собой) несколько стратегически важных точек в западном Средиземноморье. Особенно большое значение, как мы уже отмечали, имел захват в 1704 году Гибралтара. Эта крепость контролировала выход из Средиземного моря в Атлантический океан и учитывая превосходство английского флота над флотами средиземноморских государств, контроль над Гибралтаром означал переход всего «Mare Nostrum» на два предстоящих столетия в руки англичан.
Упомянутое выше морское сражение при Малаге было связано именно с борьбой за Гибралтар. Испанская крепость была слабо укреплена, англичане этим воспользовались, высадив на полуострове десант. Французы и испанцы опомнились слишком поздно, они попытались отбить Гибралтар у морской пехоты Рука. Для этого из Тулона, по направлению к Гибралтарскому проливу вышел французский флот, чтобы блокировать крепость с моря. Одновременно предполагалось начать наступление на суше. Де Турвиль умер в 1701 году и все, что французы смогли сохранить от его флота, вручили графу Тулузскому – внебрачному сыну Людовика XIV, человеку двадцати шести лет отроду.
В сражении у Малаги стороны выстроились в две линии, так что на траверзе каждого из их кораблей находился вражеский корабль, и практически не маневрируя, с 10 часов утра до 5 часов вечера, палили друг в друга. Такой бой не выявил победителя, хотя сильнее пострадали и в худшем положении по его итогам, оказались английские корабли. Англичане бомбардировали Гибралтар во время высадки десанта и некоторое время до этого крейсировали в море, поэтому к началу сражения они имели неполный боезапас. Однако граф Тулузский не использовал всех преимуществ сложившейся ситуации, и после семичасовой артиллерийской дуэли увел свои корабли обратно в Тулон, отправив в Версаль донесение о победе. Фактически, покинув место сражения и отказавшись от блокады Гибралтара всеми силами французского флота, граф Тулузский отдал победу в руки англичан. Последовавшая за тем отправка графом Тулузским к осажденной английской крепости десяти линейных кораблей, была совершенной глупостью. За неравенством сил эти суда были легко уничтожены англичанами. Неоднократные атаки Гибралтара испанскими войсками со стороны суши результатов также не дали. После морской кампании 1704 года французский военно-морской флот был окончательно дискредитирован во Франции. Денежные средства, выделяемые на его содержание, сокращались с каждым годом, служба на флоте с каждым годом полагалась все менее престижной для французских дворян.
Завершая рассказ о стратегических успехах Рука, следует отметить его операцию против галеонов Виго. Эта операция не стала морским сражением в классическом понимании этого слова. Еще до захвата Гибралтара, потерпев неудачу у Кадиса, Рук решил воспользоваться сведениями предоставленными разведкой и напасть в бухте Виго на испанские галеоны, недавно вернувшиеся из Вест-Индии с грузом драгоценных металлов. Охранение из французских военных кораблей оказалось недостаточным, береговые батареи испанцев слишком слабыми, и серебряные галеоны были сожжены Руком на якорной стоянке. Значение операции против галеонов Виго, состояло не в материальном ущербе, причиненном испанской короне, а в том впечатлении, которое это событие оказало на короля Португалии. Будучи очевидцем совершенной беспомощности испанцев против действий английского флота, португальский король принял решение выступить на стороне возглавляемой Англией коалиции. Помимо этого был заключен торговый договор, так называемый «Метуэнский трактат» (1703), по которому гарантировалась монополия Англии на торговлю с Португалией. Англичане могли беспошлинно ввозить во владения португальского короля и в том числе в португальские колонии, свои промышленные товары (что нанесло фатальный удар по слабой португальской промышленности). С другой стороны, в Англию, к неподдельной радости богатых португальских помещиков, на выгодных условиях, начало поставляться португальское вино.
26 июня 1706 года войска антифранцузской коалиции вступили в Мадрид. На этом их успехи на Пиренейском полуострове закончились. Общественное мнение в Испании, как вскоре выяснилось, было настроено против англичан и их приспешников португальцев. В силовом навязывании в обход завещания утвержденного папой римским, Карла III Габсбурга, испанцы, еще не потерявшие за прошедшие два столетия своего национального высокомерия, разглядели оскорбление. Ни простолюдины Кастилии, какими бы бедными не были они при своих прежних правителях, ни кастильская знать, не захотели мириться с австрийским претендентом на испанский престол. Следующий год (1707) в Испании был заполнен партизанской войной (за исключением Каталонии) и успешными операциями французских войск, попытавшихся возвратить в Мадрид изгнанного оттуда Бурбона. К началу 1708 года большая часть Испании Филиппом V была отвоевана. Однако именно в этот переломный момент, присутствие духа стало изменять Людовику. «Король-солнце» отправил к англичанам переговорщиков, для того чтобы прозондировать почву для мира. Людовик был готов пожертвовать испанским троном внука, и все чего он хотел в сложившихся условиях – это Неаполь и Сицилию, как компенсацию Филиппу Анжуйскому. Предложение было унизительным для французов, но другого выхода Людовик не видел. Англичане ответили отказом и со своей стороны выдвинули еще более жесткие условия, с которыми уже не согласился Людовик.
Война стала приобретать затяжной характер. Через несколько лет бессмысленного кровопролития, до англичан стало доходить, что, даже используя потенциал всех своих союзников, они не смогут нанести Франции окончательного поражения и задвинуть эту страну на европейские задворки. Почти все выгоды, которые Англия была в состоянии извлечь из этой войны, ею уже были получены. Общие военные расходы (армия, флот, плюс субсидии союзникам) достигли астрономической для той эпохи суммы в 150 миллионов фунтов стерлингов. Эти расходы потребовали введения в Англии дополнительного земельного налога, который охладил интерес к войне, прежде всего в рядах влиятельной земельной аристократии. Очередные выборы в Парламент продемонстрировали рост популярности консервативных тори, выступавших за осторожную внешнюю политику. Стал впадать в немилость при дворе королевы Анны один из лидеров вигов, главный герой Войны за испанское наследство – герцог Мальборо. Однако решающим фактором, который склонил чаши весов в пользу мира, стала смерть австрийского императора Иосифа I. Во главе Священной Римской империи встал его брат Карл VI, одновременно бывший претендентом на испанскую корону под именем Карла III. Объединение Священной Римской империи и Испании под властью одного монарха, как уже отмечалось, не отвечало английским интересам. 13
Сепаратный мир между Англией (с 1707 года Великобритания) и Францией получил название Утрехтского мира. Заключен он был 1713 году и сепаратным стал потому, что Австрия, не удовлетворенная фактическим положением дел, изъявила желание продолжать войну. Лишившись большинства союзников и оказавшись один на один со все еще многочисленной французской армией, австрийцы были разгромлены. От маршалов де Виллара и Вандома австрийцев не спас даже полководческий талант Евгения Савойского. Уже через год (1714) между Францией и Австрией был заключен так называемый Раштаттский мир, который подвел окончательную черту под Войной за испанское наследство.
Франция не потеряла ни пяди исторической территории в Европе и удержала за собой Страсбург. Франция, добилась, как казалось главного – она посадила на испанский престол своего ставленника, Филиппа Анжуйского. Великобритания закрепила за собой отобранные у Испании Гибралтар и Менорку, гарантировавшие ей контроль, по крайней мере, над западным Средиземноморьем. К Великобритании отходил небольшой остров Святого Христофора в Вест-Индии и внушительные территории во французской Америке – остров Ньюфаундленд и Новая Шотландия, которые входили в состав французской колонии Акадия. Эти заснеженные северные территории были, по всей видимости, не очень интересны французам, но зато они представляли интерес для англичан.
Важной для Великобритании гарантией сохранения баланса сил в Европе, было условие, лишавшее испанских королей права наследовать французский престол. Приобретения Великобритании не ограничивались приращением территорий, страна окончательно приобрела статус мировой колониальной державы, потеснив с морских путей сообщения флоты других европейских государств. Английские торговцы заполучили асьенто – монопольное право на ввоз африканских рабов в испанские колонии. Кроме того, в связи с экономическим кризисом, охватившим Францию, Англия устранила (по крайней мере, на время) угрозу французского доминирования в континентальной Европе.
Испания как государство потеряла больше других. В Европе страна лишилась по сути всех своих территорий, находившихся за пределами Пиренейского полуострова. Испанские Нидерланды стали Австрийскими (современная Бельгия). Небольшие участки земли за счет Испании получили Голландия и Пруссия. Австрия, помимо Бельгии, удовлетворила свои аппетиты присоединением Сардинии, Милана и Неаполя. Еще одно владение испанской короны – Сицилия, по решению союзников, перешла к Савойе. Голландия после Войны за испанское наследство окончательно вошла в лигу второразрядных европейских государств. Эта страна во время войны не смогла даже покрыть установленную соглашением с Англией, квоту по военным кораблям. Недостающие суда вместо Голландии выставляла Англия.
Запустение и крайняя нищета царили во Франции. Замученное неподъемными налогами и обескровленное постоянными неурожаями французское крестьянство, исчезало на глазах. Крестьяне, в буквальном смысле этого слова, вымирали. Плодородные поля зарастали сорняками. Как будто мало было одной войны, казалось, сама природа ополчилась на французскую бедноту. Свидетели эпохи отмечают резкий рост популяции волков, заполонивших центральную Францию. Волчьи стаи резали скот. Отмечались многочисленные случаи нападения волков на женщин и детей. Согласно свидетельствам только в районах городов Шартр и Ментенон от нападения волков пострадало не менее 500 человек. Но это были, разумеется, смешные цифры, если сравнивать их с количеством французов, убитых во время военных конфликтов, и особенно с числом тех бедняков из сельских местностей Франции, которые умерли от недоедания, или от связанных с голодом болезней. 14
Военные действия не велись непосредственно на территории королевства, но костяк тех многочисленных армий, которые выставляла Франция, составляли вчерашние крестьяне. Повсеместное использование линейного строя, когда пехота действовала в нерасчлененных порядках, приводило к высокому проценту потерь. Самая первая из войн Людовика XIV, завершившаяся Пиренейским миром (1659), унесла по некоторым оценкам, 108 тысяч жизней. Третья англо-голландская война, начатая в 1672 году французским королем вторжением в испанские Нидерланды, и затем продолженная Францией без участия Англии, привела к гибели в общей сложности 342 тысяч человек. Война Аугсбургской Лиги унесла 680 тысяч жизней, Война за испанское наследство – 1251. Это, разумеется, общие цифры, включающие в себя безвозвратные потери всех участников военных конфликтов на всех театрах. 15
Что касается потерь Франции от голода, то за один единственный – 1693/1694 год страна, по оценкам историка Марселя Лашивера, потеряла до 1,5 миллионов человек. Часть из них умерла из-за отсутствия еды (цены на пшеницу взлетели с 9 до 72 ливров за сетье), часть от пришедших вслед за голодом болезней. Считается, что зима 1693/1694 годов стала крупнейшей после чумы 1346 года демографической катастрофой в истории Франции. Непосредственными причинами голода стало разорение значительной части французского крестьянства и исключительно холодные зимы (одно из следствий наступления малого ледникового периода). Помимо этого, был еще голод 1709—1710 годов. Он был не таким страшным, как голод 1693/1694 года, но и он также остался в памяти французов. 16
Я двор зову страной, где чудный род людей:
Печальны, веселы, приветливы, суровы;
По виду пламенны, как лед в душе своей;
Всегда на все готовы;
Что царь, то и они; народ – хамелеон,
Монарха обезьяны.
Жан де Лафонтен. Похороны Львицы («Les obseques de la Lionne»).Скорее всего, не будет преувеличением утверждение, что Франция проиграла Англии в борьбе за колонии и за влияние в Европе из-за ошибок Людовика XIV. Это утверждение будет тем более справедливым, если оценивать его через призму политической формулы самого «короля-солнца», любившего, как говорят, проговаривать перед восхищенными взглядами придворных фразу: «государство – это я!». Многое свидетельствует о том, что государство во Франции, действительно было низведено до состояния функции монархической власти, в то время как, например, в Англии, ситуация, была обратной – монархическая власть играла служебную роль по отношению к государству и ни в коем случае, не обращала себя в государство.
Французский король, если мы допускаем, что он не делил ни с кем своей власти, не может ни с кем делить и своей ответственности. Здесь, собственно, скрывается одновременно как сила, так и слабость абсолютизма, не стесняемого ни общественным мнением, ни волей парламента. Гениальному человеку, ничто (по крайней мере, изнутри) не мешает поднять доставшуюся ему в наследство страну на небывалую высоту, точно так же, как человеку бесталанному, родившемуся по воле случая королем, ничто не мешает все окончательно разрушить. В Англии, как первое, так и второе, было невозможно из-за ее политического строя, когда человеческая воля державшая руль и закладывавшая курс (исключая протекторат Кромвеля и времена правления Генриха VIII), не была волей кого-то одного, а всегда лишь среднеарифметическим выведенным из множества воль богатых, успешных и предприимчивых людей Англии. Представительное правление в Англии исключало резкие смены курса и наиболее грубые формы политического произвола. Так как коллективная глупость явление значительно более редкое, чем глупость индивидуальная, представительное правление исключало также и большую часть тех спонтанных ошибок, которые ведут свое происхождение от слабостей отдельно взятого человека, будь то недостаток ума, несбалансированность черт характера, или отсутствие воли.
И исторический пример Людовика XIV, это как раз пример такого рода. Людовик не был ни гением, ни его противоположностью, он не страдал отсутствием воли, однако ему как человеку заурядному, были присущи многочисленные недостатки, как в частной жизни (королевском быту), так и в политике. И все эти недостатки управляли королем. Несчастьем для Франции стало именно то, что в условиях абсолютной власти, эти недостатки не были скомпенсированы влиянием на монарха его подданных. Личность Людовика очень сложна для понимания, а сложна она потому, что за всем тем блеском и солярным антуражем, которым окружил себя этот король, невозможно рассмотреть его человеческую натуру. Амбициозные посредственности, как это известно, всегда нуждаются в маскировке.
На архетипичном портрете Людовика XIV кисти Гиацинта Риго 1701 года, закутанный в горностаевую мантию, уже немолодой король, приняв величественную позу, несколько карикатурно, словно игривый козлик, выставляет вперед свою обтянутую белым чулком ножку. По всей видимости, придворные внушили «королю-солнцу», что у него очень красивые ноги. Рассматривая многочисленные портреты Людовика, мы неизменно отметим на них блеск, роскошь, пафос (зачастую карикатурный) окружающего его фона, облаченную в дорогую одежду фигуру, как своего рода намек на облаченную в совершенную форму идею, но при этом, в чем парадокс, мы никогда не замечаем на этих картинах его лица, хотя оно там присутствует. У Людовика совершенно не запоминающееся лицо, в нем нет ни выражения, ни характерных черт, оно не вызывает интереса и не приковывает внимания, и кажется, нужно увидеть это лицо миллион раз, чтобы наконец-то его запомнить.
Король, чей рост был немногим больше 160 сантиметров, ввел придворную моду на высокие туфли с большими красными каблуками (современные лабутены). В такой обуви он казался выше. Облысевший из-за болезни, Людовик установил придворную моду на особенно пышные парики. Это маскировало лысину и также добавляло роста. Подобно тому, как король нуждался в различных технических приспособлениях, чтобы прибавить себе привлекательности, точно так же он нуждался для увеличения значимости его фигуры и в беспрецедентных эксцессах роскоши. Размеры и блеск двора, к которым он стремился скорее интуитивно, чем осмысленно, и на которых он никогда не экономил, должны были придать значение тому, что в чистом своем виде, никакого значения не имело. Это была показуха, призванная закрыть пустоту, однако, нет худа без добра, и эта показуха вследствие беспрецедентности ее масштабов, сама по себе, оказалась историческим событием и отразилась на культурном облике не только Франции, но и всей Европы.
Версаль – величественный дворцовый комплекс, какого еще не знала европейская цивилизация, строился и перестраивался до конца жизни Людовика. Так называемая, «четвертая строительная кампания» (возведение Королевской капеллы), завершилась в 1710 году, за пять лет до смерти «короля-солнца». Некоторые интерьеры (Салон Геркулеса) из-за отсутствия денег до 1715 года так и не были достроены. Начало возведению Версаля было положено в 1661 году. Причиной строительства называют зависть молодого монарха к Во-ле-Виконту – дворцу суперинтенданта финансов Николя Фуке. Весьма показательно, что поручение на разработку проекта королевской резиденции в Версале, получил ни кто иной как Луи Лево – архитектор Во-ле-Виконта. Позднее, скончавшегося Лево, близкого к классицизму, сменил барочный зодчий Жюль Ардуэн-Мансар. Над украшением интерьеров Версаля трудился знаменитый художник Шарль Лебрен, а за разбивкой садов и парков следил известный садовый мастер Андре Ленотр. Кроме, собственно королевской зависти, причинами создания Версаля было стремление Людовика к славе и по-видимому, также его неприязнь (из-за детских воспоминаний) к парижским дворцам – Лувру, Сен-Жермену и Пале-Роялю. Версальский комплекс, выстроенный на болотах, в двух десятках километров от центра Парижа, превосходил по размерам все остальные резиденции короля. Место для строительства было выбрано самим Людовиком XIV и было дорого королю тем, что на нем находился небольшой охотничий замок, о котором, у Людовика сохранились приятные детские воспоминания. Во время разработки строительных планов, король настоял на том, чтобы этот охотничий замок не был разобран, а в неизменном виде был включен в новый дворцовый ансамбль.
Строительство Версаля обошлось Франции очень дорого, Жан Батист Кольбер, как свидетельствуют источники, жарко спорил с королем об оправданности тех или иных расходов. Подряды, во избежание воровства, устанавливались по фиксированной цене. Подрядчик не имел права впоследствии предъявлять казне увеличенную смету расходов. Рабочих свозили со всей Франции, любая другая строительная деятельность в округе была запрещена. Двор официально переехал на новое место в 1682 году, когда строительство дворцового комплекса, по большей части, было закончено. Приблизительно 3 тысячи комнат, приблизительно 25 тысяч окон и от 3 до 4 тысяч постоянных обитателей, из числа которых около тысячи, составляла французская знать. Людовик XIV будто бы задался целью переселить в Версаль всю французскую аристократию. Дворяне вполне безопасны, если они находятся на глазах. Воспоминания о Фронде до конца жизни не давали королю спокойно спать.