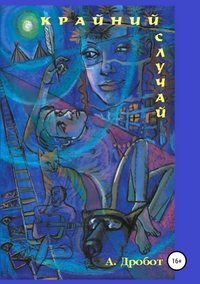полная версия
полная версияЭффект безмолвия
– О-о-о, – с восхищением оценила она. – Хороший уловчик. Пора сдавать.
– Ну, кто позвонит, ты или я? – спросила Ховк.
– Звони ты. Твоя заслуга, – произнесла опытная в политических делах Горилова.
Ховк набрала номер телефона Лизадкова и произнесла с самыми оптимистическими интонациями, какие смогла соорудить:
– Алексей Матерзанович, мы выкупили свою долю тиража и готовы продолжать, если дадите добро.
Работая в административной системе, Лизадков знал, что любая шестеренка должна вращаться от того, что ее вращает другая – более ведущая. Он не любил самостоятельное вращение снизу, заставлявшее ведущих напрягаться.
– Сколько скупили? – осторожно спросил он.
– Более ста экземпляров, – бойко ответила Ховк и еще раз добавила. – И готовы продолжать.
– Кто приказывал? – спросил он так же осторожно, но с той интонацией, по которой и ребенок сообразит, что получит наказание.
– Так Семен Петрович же сказал: сами дали деньги, сами и исправляйте? – испуганно вопросила Ховк.
– Он же не сказал: покупать, – съязвил Лизадков.
– Ну, так…, – неуверенно произнесла Ховк.
– Вы даете деньги на следующий тираж, – крикнул в трубку Лизадков. – Он вам и больше продаст, только попросите.
– Так покупать книги, или не надо? – уже всерьез испугалась Ховк, чувствуя, что совершила ошибку. – Люди же скупят.
– Кто их купит, кроме таких дур?! – не выдержал Лизадков. – Вы не знаете жителей, за которыми убирают ваши дворники и уборщики? От культуры здешнего населения подъезды уже не отмыть, а леса не очистить. Это рабочий город, а не библиотека.
***
Мысль в душе или мозге, как хотите, проходит ряд согласований по отдельным кабинетам, где находятся цензоры жизни, знатоки, и стоит одному из них отвлечься на бытовую неустроенность, конфликт и т.д., как мысль останется недоделанной или загубленной. Это и приводит к ошибкам. Не отвлекайте цензоров жизни суетой, а тем – не увольняйте.
КОЛДОВСТВО
«Я должен быть благодарен тем силам, которые подарили мне меня, но ввиду сложности выявления этих волшебников, мне приходится быть благодарным небу».
В квартиру, свет из которой уже высосала полутьма, разлившаяся на улице, пришел Квашняков. Шея его была перекручена, словно голова сделала несколько оборотов, да так и осталась. На лице застыло горе. Руки нервно сжимали книгу Алика.
– Ты зачем это написал? – в голосе Квашнякова звучал даже не упрек, а смертельная обида.
– Не огорчайтесь, – попросил Алик. – Возможно, книга не дойдет до читателя в этом городе, Хамовский скупит тираж. Если нет – то только тогда…
Спустя короткое время после этого разговора Алик, прогуливаясь по проспекту, заметил яркую ленту, какой ограждают места происшествия. За ней на корточках сидели милиционеры. Алик полюбопытствовал:
– Что произошло?
– Человеку сильно плохо, – ответили ему.
Этим человеком был Квашняков. Алик не разглядел его, лежащего на земле, страшился видеть его. Он чувствовал, что тот умирает, и душа вот-вот покинет тело и устремится искать того, кто виновен в его смерти…
Алик быстрым шагом пошел прочь, но чем дальше отходил от места печального возлежания Квашнякова, тем больше понимал, что не помер Квашняков и, скорее всего, не помрет, да и сам Алик не желал ему погибели, но притворился Квашняков. Он вымаливал смертельную для врагов жалость Хамовского.
Следующая встреча состоялась спустя две недели.
Квашняков почернел и иссох так, что костюм стал сильно велик, и голова смотрелась над этим костюмом, как тонкий почерневший фитиль на фоне воскового прута свечи, то есть миниатюрно, несуразно, глуповато, но устрашающе. Именно устрашающее воздействие хотела оказать на Алика эта головешка. Устрашить, и далее враг сам себя поест собственным страхом, а врагом Квашнякова был сейчас он – Алик. И Алик интуитивно понимал, что в устрашении и была суть визита Квашнякова.
– Я тебе все припомню, Алик, и отплачу. Ты получишь сполна за мою обиду, – прошептал Квашняков, как прошипел.
Кому хочется слышать такие слова от полуживого персонажа, похожего на вылезший из-под земли истлевший труп, каковым Квашняков вполне мог и быть, когда бы не избегнул клинической смерти? С другой стороны бояться трупа – то же самое, что бояться любого предмета, лишенного жизни, вроде палки или камня.
Алик брезгливо взял Квашнякова за плечи, мягко и любезно проводил до лестницы, ощущая через прикосновение к дорогому костюму его зловонную злобу, и как только Квашняков оказался перед открытой дверью, от порога которой открывалась лестница вниз со множеством, не менее десятка ступеней, дал тому крепкого пинка в задницу, всею подошвой ботинка, так что Квашняков покатился вниз…
Этот пинок в администрации маленького нефтяного города Алику не простили.
Уже на следующий день он почувствовал, как сгустились вокруг него силы тьмы. Борьба с ними походила на бессмысленное уговаривание северной природы сменить нрав.
Облики тьмы зеленоватыми расплывчатыми образами, похожими на зимние испарения из канализации, поднимались из-под земли и плыли над нею навстречу неотвратимо. Оставался только вопрос – кто их источник?
Встреча с Хамовским прояснила все. На месте, где обычно располагалась дверь в его кабинет, светилась и колыхалась прозрачная энергетическая мантия.
Хамовский, завидев Алика, встал с кресла и подошел, сменив сердитое выражение лица на заинтересованное и даже любезное.
– Видишь это свечение? – спросил он и, не дожидаясь ответа Алика, продолжил. – Сквозь него ты не проникнешь. Оно высасывает из тебя силы. Тебе недолго осталось…
***
В холле Дворца культуры маленького нефтяного города готовилось колдовство. Дети! Девочки, одетые в легкие полупрозрачные платьица, строились квадратами, один внутри другого. Они готовились к ритуалу привлечения темных сил. Алик увидел это и испугался. Он понял, что его хотят уничтожить куда быстрее, чем он ожидал. Те глупые ожидания, что Хамовский будет великодушен к выпуску книжки про него и возможно сочтет лучшим вариантом выкупить тираж, оказались глупыми. Алик устремился к девочкам.
– Подождите, не начинайте, я схожу к Хамовскому, – крикнул он, и маленькие колдуньи замерли в ожидании.
Имя шефа остановило их. Это единственное, что могло их остановить. Алик побежал к кабинету Хамовского. Посланница от колдуний опередила Алика, чтобы получить дополнительные указания в отношении ритуала. Когда Алик добрался до Хамовского, девочка уже побежала обратно.
Хамовский по-прежнему сидел в своем черном кресле. Он еще сильнее растолстел, более того – полысел. Его лицо покрылось жировыми складками, свинячьи глазки недобро поглядывали. Он ожидал приближения Алика, как паук ожидает приближения мухи, безо всякого движения, природно зная, что та никуда не денется.
Хамовский понимал, зачем пришел Алик – просить пощады и снисхождения. Но никакой пощады.
– Сожми кулачок, – сказал он Алику. – Там появится небольшое яичко. Передай его мне.
Что будет после этого, Хамовский не сказал. Можно было только догадываться.
«Простит или не простит?» – об этом думал Алик, сжал кулак, и там действительно появилось яичко, нематериальное, полупрозрачное, оно сияло золотым светом. Отдать его Хамовскому означало отдать свою суть, душу. И Алик понял: Хамовский рассчитывает, что он из желания сохранить свою жизнь, передаст это яичко. Тогда Хамовский его все равно уничтожит, но это уничтожение станет тем ужаснее, что Алик передаст собственными руками своему убийце самое дорогое, что у него есть…
Он развернулся и ушел от Хамовского. Прошел сквозь зал дворца культуры «Украины», где ритуал продолжился. Песнопения неслись к потолку, к небесам. Алик вышел на площадь перед Дворцом культуры. Небо стремительно темнело. Грозные тучи скрадывали голубизну и приближались к солнцу. Алик испугался, он оглянулся в поисках людей, способных ему помочь. Их было всего трое, этих возможных помощников, но они пребывали в растерянности. И тут Алик понял, что остался один на один в борьбе с тьмой. Он испугался и обратился к последней надежде, к Богу.
– Боже, помоги мне, – взмолился он, протягивая руки к солнцу, ожидая, что из ладоней вылетят искры, превратятся в пламень и этот пламень ударит во тьму и раскромсает, разгонит ее. Но мощные облака быстро затягивали и само солнце, и на границе туч осталась лишь узкая каемка тусклого малинового огня, похожего на прощальный поцелуй. А те искры, что действительно поначалу полетели из ладоней Алика, закручивая затейливые петли, потускнели и исчезли…
***
Алик проснулся. Солнце заглядывало в окно, зажигая шторы и плодя солнечных зайцев, навевая мысли о детстве и не столько мысли, сколько ощущения его. Ощущения оживают, стоит их подкормить тем, что они хорошо знают и помнят. Где-то в этом краю ощущений и прозрений живут подсказчики будущего, живут предупредители и хранители.
УГНЕТАЮЩАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
«Чтобы подниматься наверх, надо и цепляться за предметы и людей, расположенные выше, а не спускаться на давно исхоженные низины».
Пока солнце за облаками, греются только облака, а что такое власть, как не облака. Стоит облакам пропустить лучи солнца, как жизнь обретает краски и настроение. Отсутствие дальнейших разговоров о его приказном участии в избирательной кампании и стало для Алика этим лучом солнца, который говорил, что его книга правильно понята, что он вышел из числа прислужников Хамовского, готовых на все. Он отстраненно наблюдал, как Хамовский, подстреленный его книгой, самоуверенно отказавшись от избирательной кампании и всего лишь на месяц исчезнув с газетных полос и экрана телевизора, едва не проиграл Тополеновой, редактору самиздатовской двустраничной газетки, внешне похожей на недоделанного Буратино. Он размышлял об этом, сидя в любимом домашнем кресле:
«Хамовский живет в тираже собственных ликов и слов, чтобы не разбежалась публика, сопровождающая его в ход идут новые книги, статьи, лики, встречи, речи, обеды… Но стоит исчезнуть приманкам и напоминаниям, как исчезает и сам Хамовский. Цена его власти – сиюминутность, как у журналиста, а это означает, что в его книгах, статьях, ликах, речах нет нетленной основы. Скоротечна религия господ, но она словно барабан, задающий тон и шаг».
Поначалу и Алика захватывало чувство исполненного долга от реализации приказов, сравнимое, пожалуй, с армейским чувством повиновения. Сомнения появляются при совестливом осмыслении, но они возникают позднее и далеко не у всех. Да и позднее – сложно сделать сиюминутный выбор между повиновением, необходимостью и служением истине.
– Почему у тебя бежит агитационная строка Тополеновой? – грозно спросил Лизадков по телефону.
Над Аликом уже висела вина перед Матушкой, которую Хамовский запретил показывать на экране, и он не хотел добавлять новую тяжесть на сердце. Для него честность оставалась вполне живым зверьком, еще не вытравленным ни Квашняковым, ни Лизадковым,… ни повышением в должности. Он, несмотря ни на что, оставался в первую очередь – журналистом, а не чиновником.
– Она имеет право на объявление бегущей строкой по договору, как и каждый из кандидатов, – ответил он. – В том числе и Хамовский.
– Право?! Какое право? – повысил голос Лизадков. – Убирай немедленно.
– Но она оплатила, у меня будут проблемы, – возразил Алик.
– У тебя будут проблемы, если не снимешь строку, – выкрикнул Лизадков, который только что имел разговор с Хамовским и прикрывал сам себя.
Просчет в избирательной кампании мог отразиться на его карьере и кошельке.
– Так на меня дело откроют, – напомнил Алик.
– Никто ничего не откроет, Супов все замнет, – ответил Лизадков. – Снимай немедленно.
***
Председатель избирательной комиссии маленького нефтяного города Супов был человеком скрытным. Он мог зарегистрировать нужного Хамовскому кандидата после определенного законом срока. Он хранил бюллетени так, что никому, никогда не удавалось их пересчитать.
Кухня выборов, как и в любом ресторане, оставалась вне внимания кушающей публики. Конечно, надо быть глупцом, чтобы обедать у известного отравителя. Но жители маленького нефтяного города, избиравшие власть, никогда не брезговали и не опасались.
Публике давали блюдо, а что там в этом блюде: плюнул ли кто в него, положены ли все ингредиенты и соблюдена ли пропорция и весовые соотношения – это вопрос темный, рассчитанный на вкусовое восприятие. Не сумел распознать, жуй, что дают, а сумел, так все равно ничего не докажешь или потеряешь столько времени, что и жить некогда будет. Вот такой фигурой был Супов.
***
Алик снял бегущую строку и получил два гражданских судебных дела и два штрафа. В преследовании его первейшую роль сыграл Супов, публично вставший на сторону Тополеновой. Алик позвонил Лизадкову.
– О-у? – весело отозвался Лизадков в трубке.
– Я был у Супова. На меня дело составляют, – демонстративно грустно сказал Алик, что, по его мнению, должно было вызвать сочувствие на той стороне телефонного соединения.
– Ну и пусть составляют, – чуть не рассмеялся Лизадков и еще веселей продолжил, как о несущественной пустяковине. – Алик! Че ты! Пусть составляют! Че ты?!
– Вы приказали, я исполнил. Сейчас вы меня бросили на съедение собственной структуре, – напомнил Алик.
– Ничего страшного, – произнес Лизадков так, словно пропел. – Ну, заплатишь штраф пятьсот или тысячу рублей. Че волнуешься?
– Вы знаете, мне эти подставы неприятны, – ответил Алик.
– Ну, че ты!? Выпиши себе премию. Хамовский подпишет, – ответил Лизадков.
***
Хамовский молча подписал распоряжение о премировании, в которое Алик для безопасности вписал весь коллектив телерадиокомпании, и кинул бумагу Алику. Деньги для него давно стали обоями, скрадывающими окружающий его негатив.
«На еду не обижаются», – говорила теща, и Алик распространил эту поговорку на деньги. Деньги глушили вину, отстраняли от содеянного, но не пленили ум.
Бойтесь лекарств чиновников, они укрепляют их стул и изводят беспокойства, а их беспокойство – не ты ли – тот, кто ищет путь? Но, не щупая, не найти; не пробуя – не узнать. Алик щупал, пробовал и ошибался.
ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ
«С близкими ругаются потому, что от них ждут большей помощи, чем получают».
Средства массовой информации маленького нефтяного города давно превратились из средства контроля над властью в средство укрепления властью своего положения. Телерадиокомпания выпускала программы и сюжеты, словно бы цех по выпуску кирпичей для дворцов власти, и каждый из этих кирпичей летел в голову телезрителя, автоматически вставая на отведенное ему архитекторами место. Но проще отучить собаку вилять хвостом, чем отвадить журналистов лебезить и заискивать перед чиновниками. Алик скоро понял, что коллектив телерадиокомпании маленького нефтяного города не изменить.
Все новые сотрудники, которых он принимал на работу, поначалу исполняли его требования, но спустя короткое время тематика их работ напитывалась муниципальным подходом старого состава телерадиокомпании. Коллектив телерадиокомпании оказался самовоспроизводящей машиной кадров с вживленной внутрь программой, заключавшейся в двух словах: «быстрее отделаться».
– Вера, я не знаю, что делать, – признался Алик в разговоре с Пальчинковой. – Прошу Букову сделать программу с творческими людьми города. Она проводит скучные интервью. Прошу Павшина, в прямых эфирах отстаивать права жителей, а он становится на сторону чиновников. Звучат общие фразы, ничего конкретного.
– А ты ничего не сделаешь, пока не разгонишь коллектив, – искренне ответила Пальчинкова.
– Но трудовой кодекс не позволяет увольнять за скучную программу, там либо пьянство, либо прогул, а остальное требует серьезных доказательств, – напомнил Алик. – И если это государство не рухнет от такого отношения людей к своим обязанностям, к своей профессии, к своей жизни, к своей родине, наконец, то это будет большим счастьем для этого государства.
– Знал бы ты, как тебя ненавидят за насаждение дисциплины, – поделилась Пальчинкова. – Когда оставалась вместо тебя, чего только не наслушалась.
– Если не умеют творить, то пусть хоть дисциплину соблюдают, – сказал Алик. – Сейчас же меньше пьянствуют?
– Намного меньше, – согласилась Пальчинкова.
– Замечание к замечанию, а там и увольнение, – напомнил Алик. – Может так коллектив и очистится…
***
На самом деле, Алик не был деспотом и никого не увольнял. Он просил и убеждал журналистов:
– У вас великолепная работа. Она позволяет зарабатывать деньги и при этом узнавать, создавать новое, и даже прославиться. Где перспективные проекты? Где искры любви, идеи? Задачи, которые я приношу из администрации – это рутина.
– А у вас есть перспективный проект? – внезапно спросила Букова.
– Есть, – ответил Алик. – Но я не люблю открывать планы раньше времени…
Спустя небольшое время он зашел в корреспондентскую, и увидел Букову в сладкой дреме возле компьютера.
– Татьяна, почему ты сегодня ставишь повтор старой программы, где новое? – сдерживая гнев, спросил Алик.
– Я как раз думаю над новым проектом, – ответила Букова, обеспокоено глянув на расклад пасьянса, висевший на экране монитора.
– Каким? – спросил Алик, жалея, что монитор отвернут от него.
– Мне не хотелось бы сейчас говорить о нем. Вы же говорили, что все прекрасное рождается в покое и молчании, – ответила Букова, щелкнула компьютерной мышкой, и пасьянс исчез.
Алик не знал, что ответить. Перед ним сидел страшный человек в образе худенькой, редко улыбающейся стареющей женщины, рано оставшейся без мужа по прихоти Бога, раздающего болезни. Что прихоронила она в душе? Что заставляло ее притворствовать, использовать выведанный рецепт лекарства для составления на его основе яда?
«Мыши должны знать слабости кота, иначе будут съедены. Лень должна быть умна, иначе умрет с голода, – размышлял Алик уже в кабинете. – Скрытность для творчества так же важна, как и для лени. Но как отличить? Только по результатам. Но лень, узнав внешние признаки труда, исполнит их при минимуме усилий. Задай лени количество, она сделает его при минимуме качества. Введи контроль качества, лень исполнит обязательства на той их грани, за которой начинается гниль».
Он научился монтировать сюжеты и программы, снимать на видеокамеру, учился телевидению, чтобы его тексты не могли испортить операторы и монтажеры. Он приглашал на телевидение маленького нефтяного города преподавателей из Москвы и других городов, но почти все его усилия, походили на вращение пустой мясорубки.
– Я все знаю, все слышал на месячных курсах, у нас сам Познер преподавал, – авторитетно заявлял Павшин.
– А я и так все знаю, – утверждал Задрин. – У меня хоть и нет высшего образования, но я любого специалиста за пояс заткну.
– Хамовского мы уже в разных видах снимали, что тут нового можно придумать? – вопрошали операторы.
– А мне Хамовский сказал: зачем вам учиться? – вспомнил Пухленко, полноватый крепыш, попавший в журналистику из спортивного института. – Как были слесарями третьего разряда, так и останетесь.
Блуждая в просветительских фантазиях, Алик набивал шишки на реальных косяках, он понял, что любой самый сладкий сон не заменит реальной еды, и решил больше внимания уделять собственным проектам, книге, нежели коллективу, начинка которого была ему неподвластна.
Между тем Валер в комнатушке отдыха на втором этаже телерадиокомпании продолжала собирать вокруг себя журналистов и вести провокационные разговоры.
– Прямо диктатор, скоро в туалет будем ходить по заявлению, – говорила она. – Компьютерные игры запретил. Я ему говорю: у наших ребят это единственное развлечение, и оно не мешает работе. А он: «Мы наполняем свою жизнь второстепенными делами, а потом жалуемся на нехватку времени для главного». Жанна, ты понимаешь?
– Гнет из себя, как бы хребет не сломался, – включилась в разговор Мордашко, озорно поблескивая зубами. – Заявляет, чтобы я лицом к нему поворачивалась, когда он со мной разговаривает. Да кто он такой, чтобы учить? Все говорят, что я сзади лучше.
– Книгу привез. Мог бы подарить. Так нет – только продает. Не уважает он нас, – напомнил Пухленко. – Татьяна, ты ее купила, о чем он пишет?
– Очередная «Дробинка», – веско сказала Букова. – Власть критикует, Хамовского. Но тут какой-то подвох. Хамовский его назначил главным редактором, а он выпустил книгу против власти и Хамовского.
– Избирательные технологии, – оценил Павшин. – Часть критически настроенного населения ушла за Аликом, а значит, в корзину Хамовского.
– Тут выгадывать нечего – все под Хамовским, – обобщила Валер. – Надо поссорить их. В этом наш шанс. Надо сказать Хамовскому, что доходы телерадиокомпании могут быть в десять раз выше. Тот заставит искать резервы. А что тут можно найти, если над доходами не такие, как Алик думали. Сядет главред в лужу. И здесь ему надо нервы делать…
НЕРВЫ
«Любой фрукт вкуснее всего перед падением».
В библиотеке маленького нефтяного города, за столами, выстроенными буквой «п», сидели молоденькие студенты, которым предстояло демонстрировать поэтические способности, и состоявшиеся поэты маленького нефтяного города.
Алик огляделся. Здесь была и милая поэтесса Примафеева, известная душевной мягкостью своих строк, и низенький дядька с бородкой, очень похожий на бомжа, Конепейкин, любитель закрученных смыслов, и передком пробивающая стихию жизни Твороп, которой просто нравилось рифмовать…
Бредятин, в стихах которого правили честные признания сумасшедших, пришел на мероприятие вместе с женой и, памятуя о появившейся в городе книге и прошлых конфликтах, присел подальше от Алика.
Поначалу мероприятие шло в спокойном размеренном темпе. Студенты, волнуясь и потея, читали свои произведения, а взрослые поэты пили чай вприкуску с печеньем.
Длилось все это достаточно долго, чтобы заскучать.
Затем слово перешло к гостям. Оно медленно и монотонно жужжало до тех пор, пока не наступила очередь Алика, пришедшего на поэтическое мероприятие только с целью раздачи своих книг детям.
Книга на детских руках полетела по букве «п». Бредятин, являясь одним из потешных героев этой книги, принялся подергивать скулой и бессмысленно наклоняться к столу, словно от резких кишечных болей. Его ведьмообразная жена, сидевшая от него по правую руку, воплощенная в миниатюрном эпизоде книги в злобном персонаже, ярко побледнела, ее глаза зажглись огнем крематория.
Алик не замечал происходившего с его коллегами по поэтическому творчеству, он радовался тому, как детские руки обнимают книгу, сказал несколько хороших слов о ней, и вернулся к теме заседания, посвященного Великой Отечественной войне:
– Сейчас часто пересматриваются итоги…
– Нет, я не хочу этого слушать! – вскрикнул Бредятин, кишечные боли которого достигли предела. – Я не хочу слушать этот бред!
– Вы о чем? Я еще ничего не сказал, – удивился Алик.
– Я не буду слушать эту оголтелую пропаганду, – понесло Бредятина, возжелавшего испортить впечатление детей об Алике и о книге, которую они еще не читали. – Сейчас о прошлом говорят черт те что. И он туда же.
– Михаил Иудович, я еще ничего не сказал, – еще раз напомнил Алик.
– Уже видно, куда клоните! – взорвался Бредятин, подпрыгнув с места.
– Вы, видно, начитались лишнего, вот и мерещится, – с мягкой язвительностью парировал Алик.
– Михаил Иудович, упокойтесь, успокойтесь, – вмешалась библиотекарша.
– Не буду я успокаиваться. Я ухожу, – Бредятин оделся и вышел за дверь.
«Я бы, наверное, и сам не выдержал, если бы на моих глазах распространялось парафинящее меня произведение», – подумал Алик и продолжил:
– Все сферы, куда может проникнуть народ, например, журналистика, депутатство, сразу облагаются этическими ограничениями. Но этические ограничения в сфере исследований всегда ведут к жульничеству. Спор о числе погибших в прошедшей войне будет вестись еще долго, но он не умаляет подвига солдат. А сейчас я хочу прочитать стихотворение своего друга Рифмоплетова, которое, правда, посвящено не войне, а жизни, но разве не ради жизни шла эта война?
Для истории жизнь – не святыня,
Как и кладбища тел в забытьи,
Сколько даренных судеб здесь стынет
В вечных поисках соли земли.
Но ни солнце, ни дальние звезды
Не оценят усилий людей.
Мы лишь – пыль, как и звезд этих гроздья,
Для безмерной галактики всей.
Дружные аплодисменты отхлестали жертву Бредятина и выгнали прочь. Алик взглянул на жену Бредятина и обомлел: ведьма, действительно ведьма. Ее распущенные поседевшие волосы, облизывавшие плечи, словно бы обладали собственной жизнью и гасили свет вокруг нее. Глаза блистали перестоявшимся гневом. Алик представил себя мужем этой женщины, и сердце наполнилось ужасом.