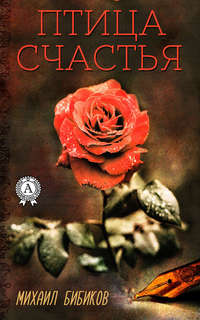Полная версия
Рукопись Арно Казьяна
И еще об одном преимуществе нашей новой квартиры с завистью упоминали жители нашего бывшего двора – о паровом отоплении. Это было умопомрачительно, так как избавляло от сложной проблемы ежегодного приобретения дров и угля, что было сложно из-за дефицита топлива и «влетало в копеечку».
3. ГОРЛАНОВСКИЙ ДВОРНо если жители прежнего нашего двора завидовали нашей квартире, то какие же квартиры были у них? Всего во дворе, считая и жителей фасадного двухэтажного дома, нижний этаж которого был отдан под службы быта: парикмахерскую, пекарню, хлебобулочный, продовольственный магазинчики и дворницкую, проживало двадцать три семьи. Это был многонациональный двор, каких в те годы существовало множество. И никаких шовинистических предрассудков: идеальное, словно выверенное на «аптекарских весах» равенство! Интернационализм в действии.
В этом дворе проживали: украинцы, русские, татары, поляки, австрийцы, латыши, евреи, белорусы. Украинцев – три семьи, русских – шесть, татар – четыре, поляков – две, латышей – одна, евреев – пять.
В основном малограмотные, а то и вовсе безграмотные люди почти ничего не читали, а значит, жили в полной изоляции от какой бы то ни было агитации и пропаганды, ибо в те годы не было еще не только телевизоров, о которых мы и перед войной только слышали, но и радиоприемников. А это еще значит, что мир и дружба между собранными в случайной комбинации людьми различных национальностей оказывались естественными, как сосуществование воздуха с водой, неба с землей, осадков – с уровнем воды в реках и морях. Если и были любители поворчать в кулачок по поводу той или иной нации, то по мере сосуществования в одном дворе, их становилось все меньше. Не обходилось само собою и без того, что вгорячах кто-либо и «упрекнет» соседа в причастности к другой нации, но это было не в счет, так как уже на следующий день «упрекнувший» всем своим видом умоляет о прощении, а его оппонент всем своим видом дает понять, что вовсе не сердится.
Итак, какие же квартиры в двадцатые, да и тридцатые годы, были у жителей нашего «Горлановского» двора? «Горлановским» его называли по имени собственника хибар, понастроенных им под сдачу бесквартирным рабочим на пустыре, примыкающем к Гончаровке. Какое наследство оставил царизм рабочему классу в социальном плане? Квартиры «Горлановского» на этот вопрос могут ответить «самостоятельно». Итак, предоставим им слово…
Я мысленно предоставил «слово» квартире моего друга Володи Липатова, вернее, квартирам, потому что перед войной они жили уже в третьей квартире.
Начнем с первой…
Крохотная передняя с печкой и небольшая клетушка за ней. Все это погружено наполовину в землю – так называемый полуподвал. У печурки – с полтора десятка кирпичей для просушки сырых, раскисающих и оползающих стен. Для этого нужно было накалить их на печурке, для чего расходовалось гораздо больше дефицитных дров, чем их потребовалось бы для отопления «квартиры». Достать дрова было нелегкой проблемой, а еще большей было заработать на них дополнительные деньги. Во время просушки стен, а их просушивали, без малого, постоянно, «квартира» напоминала парилку на пике своего «творчества», как по количеству пара, так и по «парильным» свойствам: квартиранты исходили потом. В основном, просушивалась стена под крохотными двумя оконцами, особенно после дождей…
В общем, эту квартиру смело можно назвать «колыбелью» туберкулеза, ревматизма и Бог знает каких еще болезней. Там старшая сестра Володи и заболела: легкими, ревматизмом, а впоследствии и ревмокардитом. И так почти в каждой квартире.
Вторая квартира Володиной семьи была сухой, но непомерно крохотной: что-то в пределах двух с половиной метров на человека…
Третья квартира, в которую переселилась семья Володи, была тоже полуподвальной, тоже сырой, но была просторней – в ней не менее четырех квадратных метров на человека. В освобожденную клетушку вселилась семья, на этот раз, из пяти человек. Через три года стало восемь: двое взрослых и пятеро детей. Невероятно? – Но факт. И тогда, в порядке везения, им удалось сменить свою сухую каморку на полуподвал и сырой и темный, но с площадью, около четырех метров на человека.
Подобных квартир было большинство. Только четыре квартиры двора располагались в домах, не погруженных в землю. Заселены они были до предела…
Память перенесла меня от квартир Горлановского двора к их обитателям, людям, на мой взгляд, типичным для двадцатых, затем, тридцатых, да и сороковых годов тоже.
Это история, а историю забывать негоже.
Наш многонациональный двор составлял дружелюбный союз и являлся, по сути, микроскопической моделью Советского Союза, только с меньшим числом «республик»: в нашем дворе их было восемь, соответственно представителям восьми национальностей.
Жители двора, в основном, были тружениками, что в поте лица зарабатывали для семьи трудовую копейку. Имею в виду мужчин; женщины в двадцатые годы занимались домашним хозяйством: созданием «уюта» в своих полуподвалах, приготовлением пищи, воспитанием детей и, если оставалось свободное время, как и положено прекрасному полу – сплетнями. Только не пугайтесь несимпатичного названия этих своеобразных «последних известий» – ведь тогда еще не было ни радио, ни телевизора, который мне удалось посмотреть перед войной только раз, но за которым, я уверен, огромное будущее, без опытных сплетниц, что представляли собой своеобразное «справочное бюро», было бы и совсем «глухо» жить. Сплетницы были в почете, их угощали семечками.
4. СОСЕДКаждый двор – это большая семья, в которой, как известно, «не без урода». Были уроды и в нашем дворе. Ну, например, наш ближайший сосед, украинец Иван.
Квартиры, нашу и Ивана, разделяла стена с дверью, заколоченной гвоздями и пропускающей звуки, вплоть до зевков. Когда сосед приходил домой во хмелю, а он приходил во хмелю ежедневно, жена старалась прошмыгнуть мимо него и выскочить во двор, чтобы пересидеть «бурю» у соседей. Но удавалось ей это редко. Была она старше мужа, рыхловата и рябовата. Сосед – пьяница и дебошир, а, кроме того, азартнейший игрок в «очко». На работах задерживался недолго – выгоняли за пьянство и прогулы. Когда случались просветы в пьянке, бывал неплохим мужем и отцом – у соседей рос сын. Но это – не часто, поэтому «особой приметой» соседки через стену были мигрирующие синяки под глазами.
Семья жила тем, что соседка с рассвета и дотемна стирала чужое белье. Белье ей давали охотно, потому что прачка она была отличная. Но сколько бы она не гнула «холку», над корытом, заработанных ею денег не хватало на жизнь. Может, и хватало бы, если бы муж не запускал в семейную кассу, дрожащую с похмелья лапу, и не опустошал бы ее до дна. Тогда жена брала сумку и отправлялась на базар за покупками. Ее улыбчивое доброе лицо внушало торговкам доверие. Именно оно и требовалось для того, чтобы, вбросив незаметно в сумку «покупку», ретироваться за спины покупателей.
Когда, случалось, ее хватали за руку, клялась и божилась, что расплатилась… Слышно было через дверь, как она рассказывала мужу, каким образом попал в сумку тот или иной продукт. Он хохотал и похваливал жену.
Не удивительно, что к пятнадцати годам их сын сел в тюрьму за кражу. Потом сел за повторную кражу. А перед войной вовсе пропал без вести.
5. КАМИЛЬВспомнилось о циркаче из нашего двора, кумире пацанов, татарине Камиле.
В маленькой клетушке жила семья из трех человек: мужа, красивого мужчины лет тридцати, жены, красивой, доброй и веселой женщины лет двадцати пяти и их сына, упитанного бутуза лет пяти. Во дворе они поселились еще до революции. В одно недоброе утро соседи не увидели на лице этой женщины привычной приветливой улыбки, которая так ее красила. Вскоре выяснилось, что арестовали ее мужа за революционную деятельность. С месяц ходила женщина, словно в воду опущенная. Во время побега из тюрьмы ее мужа убили. Когда ее вызвали «куда следует» и сообщили об этом, она не поверила охранке и ждала возвращения мужа домой три года. Люди национального меньшинства, проживающие в других республиках, обычно дружны и обязательны. Нашелся в охранке человек татарской национальности, который принес жене убедительные доказательства смерти мужа. Все время вдова вела пуританский образ жизни, мало бывала на людях, не улыбалась. И неожиданно вышла замуж. Ее давно сватали за молодых людей татарской национальности, но вдова и не помышляла о замужестве. И вдруг вышла за старика, у которого незадолго до этого умерла жена – старушка. Ей не было и тридцати лет, ему – около пятидесяти пяти. У вдовца был сын, почти ровесник его молодой жены. Судя по поведению «молодых», старик был равнодушен к женскому совершенству, жена и вовсе относилась к нему, как к дедушке. Она никогда никому не рассказывала о мотивах, толкнувших ее к этому неравному браку. Но дворовые кумушки у кого-то через кого-то выведали подноготную странных отказов красивым парням: вдова дала зарок до конца дней своих не изменять тому, кто был ее первой и последней любовью. После гибели мужа она перенесла всю силу любви на своего сына, которого и без того любила до самозабвения. Ради сына, ради того, чтобы он не познал тягот безотцовщины, мать и вышла замуж за старика, немощного и безразличного к прелестям прекрасного пола.
Как я уже говорил, у старика был сын, без малого ровесник мачехи. Как-то вздумал он, будучи «под мухой» поухаживать за ней и – вылетел из комнатки, как «встрепанный». С тех пор «Апаюшка» – так ее стали позже звать во дворе в знак уважения к ее добропорядочности и пристрастия к детям – поставила перед мужем условие: если еще хоть раз его сын осмелится перешагнуть порог квартиры, покинут его уже оба: сын и отец. В планы старика такой оборот дела не входил, потому что и женился-то он в расчете на то, что, когда придет время, будет кому за ним присмотреть. На сына рассчитывать он не мог – тот был законченным алкоголиком и негодяем, того и гляди – прирежет.
У старика были кое-какие сбережения – он долгое время работал официантом. Поэтому жили они безбедно. Апаюшка не работала: хозяйничала и холила «мужчин». А старик трудился по мужской части: чинил обувь, поправлял то дверь, то штакетник крохотного палисадника, то мастерил пасынку голубятню.
Камиль, так звали Апаюшкиного сына, с первых дней зарождения в нашем дворе голубятничьей лихорадки, отдал себя ей всего, без остатка. Увлекательное и, на мой взгляд, исключительно интересное занятие поглотило настолько первозачинателя, что его вскоре исключили из школы, то ли после третьего, то ли после четвертого класса за абсолютную неуспеваемость.
В двадцатые годы за этим дело не стояло: не хочешь или не можешь учиться – иди работать. Тогда еще не было насильственного обязательного обучения; и как это оказывалось практично и человечно со всех сторон. Я не берусь утверждать, было ли обязательное образование узаконено, но что его не существовало практически – это именно так. Не хочешь учиться в школе – иди осваивать рабочую профессию: и школа избавится от балласта, и рабочего класса прибудет. И я не помню случая, когда кто-либо из отстающих учеников, покинувших опостылевшую школу и став рабочим, пожалел бы об этом.
Покончив со школой, Камиль с утра и до вечера носился по двору с запрокинутой головой: глядел, глядел, и наглядеться не мог на летных голубей своих, поднимающихся так высоко, что только он один и мог распознать их по крохотным точкам на голубом полотне неба, только он мог разглядеть «чужака», прибившегося к его стае, или, напротив, своего, отбившегося к «чужакам». Оказалось, что его отчим неплохо разбирался в голубятном деле. Он и посвящал пасынка в святая святых этого, по-сути, не такого уж и простого дела.
Апаюшка, как и большинство матерей, отправляя сына в первый класс, мечтала про себя, что он станет ученым человеком. Поэтому, когда Камиля отчислили из школы, ей показалось, что небо обрушилось на нее. Но старый муж, с которым, кстати, ей жилось неплохо, и которого уважала за жизненный опыт и знание людей, сумел ее убедить в том, что произошло то, что должно было произойти, чтобы ее сын не стал ученой бездарью, а стал одаренным рабочим. В этом отчим ни минуты не сомневался, потому что у Камиля и «руки были поставлены правильно» и сметка будущего рабочего была налицо.
Со временем его «охота» разрослась до нескольких десятков голубей, но каких голубей! Тут были и летные, и турманы, и чубарые, и мохноногие. Тут были белые и черные – «галочки», тут были: красные белохвостые и черные белохвостые, красные и черные «плекие», и даже дикий голубь – «псаль», прибившийся к стае и облюбовавший летную голубку. Бывалые голубятники советовали уничтожить его, чтобы не увел ее к «псалям», но Камиль решил рискнуть и спаровать с голубкой. И спаровал…
Бывало, отправляет в лет Камиль свою стаю, а «псаль» мечется по крыше, воркует во всю свою раздувающуюся грудь, словно уговаривает подругу оставить бесполезное занятие.
Но познавшим прелесть полета не до сидения на крыше, когда поднимается стая. И стал сдавать позиции дикарь, стал «окультуриваться». В начале то и дело оставляя летунов и возвращаясь на крышу. Потом стал летать крыло в крыло с голубкой.
Дивились голубятники, предлагали выгодный обмен, но Камиль держал голубей не ради выгоды и меняться не стал.
По примеру Камиля, еще три подростка Горлановского двора приобрели голубей. И, само собою, оставили школу.
Четверо голубятников в одном дворе – это много. Тут одно из двух: или абсолютная честность по отношению друг к другу, или вражда. С месяц голубятники жили душа в душу, затем дружба уступила место вражде. Завистники стали переманивать голубей в свои голубятни и требовать выкуп – есть такой закон у голубятников. По принципу: «дружба дружбой, а табачок врозь» голубиное дело стало на капиталистический путь вражды и конкуренции, вражды и потасовок.
Не могу передать, до чего нам, малышам, хотелось стать голубятниками или обладателями хотя бы одного голубя. Помню, стал канючить у матери денег на голубенка и тотчас, словно у фокусника, в ее руке оказался отцовский ремень: «видишь? – еще раз услышу – выпорю!». Кому – кому, а уж мне-то было известно, что у матери слово с делом не расходилось. Однако, тут уж я показал характер и канючил до тех пор, пока мать не сходила к Камилю и не попросила на пять минут голубя. Моему счастью не было пределов. Охватив голубя руками, я понесся с ним во двор, чтобы похвастать перед товарищами. Я то и дело заглядывал в круглые рыжие глаза, настороженные и отчужденные, своими нежными и влюбленными. Короткометражное счастье продолжалось не более трех минут: голубь разорвал кольцо моих пальцев и был таков. Он спокойно опустился на крышу голубятни, а я стал страстно умолять Камиля вернуть мне «моего» голубя. Камиль спросил:
– Голубь твой?
– Мой!
– Значит, ты тоже голубятник и должен знать, что пойманного голубя возвращают за выкуп. Принеси мне такого же голубя, и я отдам тебе твоего.
На этом и кончилась моя охота.
Не помню, сколько лет продолжался голубятный бум в нашем дворе. Потом стал затихать: ребята подросли, поустраивались работать, а кто – и доучиваться. Голубей распродали.
Камиль поступил в цирк, в униформу.
В двадцатые годы театров и кинотеатров было значительно меньше, чем перед самой войной. Цирк был без малого единственным местом умопомрачительных зрелищ. Родители разорялись на цирк не чаще одного раза в год. И вдруг мы, пацанва, узнаем, что парень из нашего двора будет работать в цирке, в сказочно-чудесной форме униформиста! С ума можно было сойти: во-первых, коричневая форма с золотыми галунами, во-вторых, возможность видеть все представления и даже участвовать в их подготовке!
Мы стали смотреть на Камиля, как на инопланетянина, ловили каждое его слово о неведомой жизни «иной планеты» – жизни цирковых кулис и, конечно же, арены.
А Камиль, обладавший незаурядным даром увлекательного изложения красочно и влюбленно рассказывал нам удивительные вещи.
Особенно возрастал авторитет нашего униформиста, когда приезжали борцы-профессионалы. Вот когда по-настоящему разгорался ажиотаж – пацанвы, да и не только пацанвы. Попасть в цирк было почти немыслимо…
Ну, хотя бы всемирно известный чемпион, богатырь Буль!
Или русский атлет, покоривший Европу, Буровой!
Или чемпион мира, непревзойденный техник, немец Вернер!
Или загадочная «Черная маска», не пожелавшая открыть своего имени, что в первый вечер не борется, но бросает вызов всем чемпионам поочередно! А затем кладет на лопатки всех до единого.
Затем «проездом» арену посещает «Красная маска» и бросает дерзкий вызов «Черной маске»!
И, конечно же, на «закуску» Шаляпин ковра – Иван Поддубный!
А перед схватками – парад всемирно известных. Директор цирка лично представляет уважаемой публике каждого борца в отдельности с перечнем титулов… блеск многочисленных медалей на чемпионских лентах через плечо…
Парад и представление чемпионов описать невозможно, его нужно видеть и слышать…
Наконец, парад окончен.
Началась первая схватка.
Свисток. Борцы обязательно яростно устремляются навстречу друг другу. Захват – и один из борцов-великанов в воздухе. Противник «шмякает» его о ковер, но до лопаток еще далеко: поверженный вскакивает и, пока еще не громко рыча, набрасывается на «шмякалу». И уже второй великан в воздухе. Партер, «мостик», «макароны», переворот из мостика через голову, двойной нельсон, бросок, снова партер, выход из него штопором. Рычание усиливается, шлепки «макаронов» учащаются. В воздухе совершаются чудеса ловкости, артистизма и, скорее, акробатики, чем борьбы. Что ж, на ковре ведь не команда, а трупа борцов, а труппа, на то и труппа, чтобы доставлять публике острые минуты удовольствия. Что с того, что один положит на лопатки второго уже – на первой минуте? И покажет публике свое явное превосходство над противником? Кому оно, под куполом цирка, нужно, это превосходство? Зрителю нужна техника, накал страстей, борьба с переменным успехом, с дожимом лопатки к ковру и с уходом от поражения с тем, чтобы затем борцы-артисты поменялись ролями.
Наконец, один из двух побеждает. Побежденный вскакивает, бросается едва ли не в драку с судьями, доказывает, что «туше» не было. Судьи начинают совещаться, зрители неистовствуют, мнения их разделились: одни кричат – было! другие – не было! Судьи решают повторить схватку, чтобы решить спорный вопрос, на следующем выступлении.
Зрители покидают цирк, бурно обсуждая; «было, или не было?».
Уже позади свист «галерочников», превосходящий по силе убийственный свист «соловья-разбойника» и топот их, грозящий обвалом «галерки». Уже и цирк скрылся из виду, а зрители все «режутся» было, или не было? «Режутся» и на следующий день, и в последующие.
Зато болельщики нашего двора «резались» недолго – до появления во дворе униформиста Камиля, который, выслушав утверждения противников, вначале коротко говорил: «было»! Или «не было!» И лишь утихомирив товарищей, приступал к подробностям, которые выслушивались с благоговением.
Предвоенный зритель и в подметки не годился зрителю двадцатых годов.
Нам, пацанам Горлановского завидовали пацаны других дворов. Еще бы! – ведь это в нашем дворе живет униформист…
В пятнадцать лет юного униформиста пригласили в цирковую школу.
В восемнадцать Камиль стал цирковым артистом – канатоходцем.
Образование – четырехклассное. Воспитание – голубятника. А послушали бы вы его и диву дались: отличнейший собеседник, толковейший, умеющий не только говорить, но и слушать – качество редкое даже у шибко воспитанных и высокообразованных.
В цирковой школе Камиль накачал отличную мускулатуру, приобрел осанку не только спортсмена, но и знающего себе цену артиста.
Все пристальнее стали присматриваться к нему девчата нашего двора. Ему бы и жениться на одной из них. Тем более, что девушки были, как говорится, на все вкусы, с одной общей для всех чертой – порядочностью…
Но сердцу не прикажешь, особенно если исполнилось восемнадцать: приглянулась ему цирковая пианистка, дама пикантная с претензиями на западные манеры.
Была она постарше Камиля, имела дочь со спорным отцовством, которое приписывали, однако, труппе борцов. Насколько это было достоверным не берусь судить, потому что слышал это от самой Апаюшки, а она, как было известно всему двору, с невесткой не ладила.
Расписавшись, молодые стали жить в нашем дворе, у матери. Мы, дети, любили Апаюшку – нашу утешительницу после родительских порок. Ее старый муж за год до свадьбы Камиля скончался от туберкулеза легких. Может и протянул бы еще пару – другую лет, если бы не внезапная смерть его единственного сына-алкоголика, которого он выгонял из дому, но, как оказалось, любил.
Осталась Апаюшка со своим сыном один на один на всем белом свете. Сына она любила фанатично, буквально, снимала с него пылинки, считала большим человеком, смотрела, как на икону.
Невестку Апаюшка невзлюбила, что называется, с первого взгляда, как, впрочем, и невестка невзлюбила ее.
Обостренным чутьем обожающей сына матери Апаюшка с первого же взгляда поняла, что невестка и в грош не ставит его. Мудрейший отгадчик всех загадок – время вскоре показало, что так оно и было.
Поняла Апаюшка и нелюбовь невестки к дочери. Поняла и с изумлением заглянула невестке в глаза.
Перехватила та взгляд свекрухи и закипела злобой, хотя Апаюшка приняла невестку как нельзя лучше, хотя ничем, кроме невольного взгляда, не выразила своего осуждения, хотя и приняла девочку, как родную внучку.
Ничего этого Камиль не заметил. А если бы и заметил, пожурил бы мать, ибо видел жену сквозь розовые очки первой любви своей. Он видел ее такой, какой она представилась: одинокой, обманутой негодяем, женщиной, подарившей ему тоже «первую» и «единственную» любовь. Муж не замечал ни утонченных насмешек образованной жены над неграмотной матерью его, ни ее нелюбовь к собственной дочери, к которой сам он успел привязаться.
Однако Камиль не мог не замечать ее привычно – похотливых взглядов, адресованных тому или иному циркачу и ответно – понимающих взглядов его товарищей по работе. Это было до того унизительно, до того непередаваемо мерзко и тяжко, что его любовь отодвигалась на второй план, уступая место ненависти и презрению. Когда Камиль заметил те же взгляды у себя во дворе в адрес друзей детства, то первым чувством его было чувство ревности ко всем без исключения. Однако скоро понял, что друзья оказались на высоте, чем и заслужили презрение его «благоверной».
– В твоем дворе все парни на одно лицо – серые, как мыши, – не на ком остановить взгляд, – откровенно цинично сообщила жена Камилю.
Хотелось ответить жене резко, но он уже знал по опыту, что ничего доброго из этого не получится: за два года совместной жизни он столько оскорблений понаслушался от «любящей» супруги, сколько нормальные люди и за полсотню лет не наговорят друг другу. И, главное, усвоил бесполезность словопрений с нею.
Кроме того, жена умела убедить его в том, во что так хотелось верить! Слушая ее «искреннее» возмущение по поводу нелепых подозрений и в который раз начиная заново верить тому, во что уже не верилось, Камиль ощущал нечто похожее наложению на рану целебного бальзама, который успокаивал, пусть ненадолго, и снимал боль с хронической язвы уверенности в обратном. И тогда вновь появлялись розовые очки.
Именно в таком состоянии находился Камиль, когда приехала на гастроли труппа борцов.
Даже не сразу сообразил, о чем идет речь, когда один из приятелей артистов шепнул ему, что жена успела побывать на сеновале с одним из приехавших борцов – бывшей ее пассией.
И вдруг увидел травинки сена в ее волосах и почувствовал, как кровь бросилась в голову, как бешено заколотилось сердце.
– Ты была на сеновале?!.
Она впилась глазами в его лицо – знает? Нет, подозревает – должно быть, плохо очистила волосы от сена. Так и есть. Она прошлась пальцами по густым светлым волосам и вытащила травинку, которую просмотрел на сеновале любовник.
– Ах, ты вот о чем! Голова разболелась от шума, полежала минутку на сене, там тихо – успокоилась.
– Одна?
– Одна.
До чего же Камилю хотелось верить жене! Верить в то, что она вдалбливала ему при всяком удобном и неудобном случае: она, обманутая негодяем, женщина, любит только его и что терпит его «оскорбительную» ревность единственно из любви к нему. Так хотелось, что между приступами ревности клял ее, растреклятую ревность за то, что она «оскорбляла» ни в чем не повинную женщину, брошенную «негодяем», одинокую и беспомощную, просил у жены прощения и верил.
Он верил, несмотря на то, что знал – его добрый приятель, сообщивший ему о похождениях его жены на сеновале, врать не станет. Но ведь приятель мог и ошибиться: борец мог оказаться на сеновале в одно время с его женой по чистой случайности…
Несчастье началось уже тогда, когда объявили номер Камиля, и он в костюме ковбоя выбегал на арену цирка. Если бы он не оглянулся, то не увидел бы то, что увидеть так жаждал и так боялся! Если бы не оглянулся…