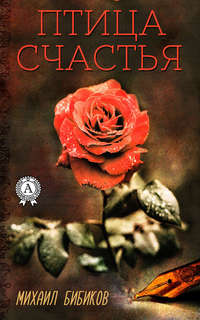Полная версия
Рукопись Арно Казьяна

Сергей Бибиков
Михаил Бибиков
РУКОПИСЬ АРНО КАЗЬЯНА
Патриотам Родины, погибшим в борьбе с фашизмом во время оккупации, посвящается.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне, как представителю первого послеоктябрьского поколения, которому пришлось пережить несравненно больше нынешнего, к которому относится и младший из соавторов этой книги, тяжело думать, что все наше поколение может быть оценено по неоправданно низким расценкам нынешних «оптовиков». Многие борзописцы, не умеющие или не желающие представить себя в ином времени, докатываются до утверждения, что мы, ветераны, были доведены Сталиным и всей, породившей его порочной системой авторитаризма, до состояния рабства.
Да, Сталин уничтожал ум, талант, честь и совесть народа. Стоило кому-либо из представителей его чуточку возвыситься над массой, и тут же следовала лютая расправа. Таким образом, были уничтожены лучшие, заслуженнейшие, талантливейшие, честнейшие, а поэтому – ценнейшие для страны люди. Выживали те, кто «посерее», да те, до которых не успели дотянуться руки сталинщины. Однако, уверяю, что это не было приспособленческой окраской «хамелеонов». Поэтому мы – не «враги народа», не «шпионы иностранных разведок», не «заговорщики террористы». Рядовых Сталин если и репрессировал, то в порядке «выполнения и перевыполнения плана» – недовыполнение исключалось.
Знала ли послеоктябрьская молодежь о массовом истреблении людей? – Да. Но, как правило, воспринимала зловещую информацию, как исполинскую битву Сталина с сатанеющим по мере приближения к коммунизму «врагом всех мастей и оттенков».
Вот – «главный сдвиг по фазе» большинства моих сверстников. Можно ли осуждать целое поколение за это? Только если принимать во внимание лишь голые факты, игнорируя господствовавшую в тот период лозунговую мишуру.
По идее серую массу легче «гнуть в дугу» и обращать в рабство. Эту весьма спорную идею и проповедуют нынче наиболее категоричные обвинители целого поколения людей, утверждающие, что пережившие сталинский геноцид, сколько бы не твердили, что «мы – не рабы, рабы – не мы!» – рабы все же…
О периоде оккупации фашистами Харькова рассказано более чемнедостаточно. О многом, пережитом нашими земляками в тот период, нынешнему поколению и вовсе ничего не известно.
Например, мало кому, кроме историков, известно, что наш город голодный и безоружный, будучи обреченным на оккупацию, сопротивлялся вооруженному до зубов врагу целый месяц. Учитывая соотношение сил, это было невероятно. И все же было!!!
Еще меньше известно о трагических буднях оккупации, о зверствах оккупантов, о геноциде. Мало кто знает о патриотах: замученных в застенках, повешенных, расстрелянных, задушенных выхлопными газами в «душегубках», заживо сожженных.
Сталинское представление о переживших оккупацию как о людях «неблагонадежных», к сожалению, и нынче не выкорчевано из сознания соответственно настроенных людей, и сейчас сплошь и рядом можно встретить в анкетах: «был ли в оккупации?» или «был ли в плену у немцев?». Одно лишь краткое «Да» и сейчас продолжает настораживать и отчуждать администрацию всех рангов, как в средние века клеймо, выжженное на лбу каторжника, отчуждало и настораживало неклейменых.
Мало кто знает об истинном размахе сопротивления патриотов оккупационному режиму даже там, где, казалось бы, борьба была невозможной. Сопротивление, в большинстве своем, стоило жизни. И все же – сопротивлялись, принимали смерть за торжество бытия. Об этом свидетельствуют многие тысячи борцов, казненных во время оккупации. Об этом говорит, в частности, бессмертный подвиг профессора Мещанинова и всего штата возглавляемой им 9-ой больницы и 7-ой поликлиники, что на Холодной горе, а также других больниц. Об этом говорят спасенные ими из лагерей смерти военнопленные…
Конечно, не могли все до единого совершать подвиги там, где казнили за малейшие проступки. Режим геноцида был крайне суровым. Многие, стараясь выжить, не торопились нарушать пресловутый немецкий «орднунг». Можно ли осуждать за это? Пусть ответит на такой вопрос Ваша совесть после того, как Вы попытаетесь поставить себя на их место. Я считаю это обязательным условием для порядочных людей.
На фоне этих «оккупированных обывателей» герои романа, в подавляющем большинстве подлинные, однако, в некоторых эпизодах, выглядят персонажами из «боевиков». Ну и что же? Совершалось столько патриотических поступков в непрерывной борьбе с оккупантами, погибало столько смельчаков, их совершавших, о которых и поныне ничего не известно, что ничего нет зазорного в том, что ничтожно малая часть совершенного ими заимствована для наших героев.
Главное в романе – историческая обстановка нашего города в период оккупации, правдивая и документальная. То же касается и большей половины рассказанного о пережитом героями романа.
ПРОЛОГ
Моя мать – из оседлых в Одессе цыган. Отец – армянин-горец. Однажды, спасаясь от погромщиков, девушка-цыганка скатилась в подвал пекарню. Молодой пекарь один обратил в бегство троих бандитов. Так встретились мои будущие родители.
С моим появлением на свет божий встал вопрос о жилье, который в Одессе разрешить так и не удалось. Тогда отец написал земляку Саркису в Харьков письмо с просьбой прозондировать почву насчет квартиры. Саркис – шумливый крючконосый коротышка-толстяк на кривых ногах пообещал помочь и мы переехали в Харьков.
Саркис не помог, и семья больше года ночевала на Южном вокзале. Потом отец присмотрел коробку сгоревшего двухэтажного дома и добился в исполкоме разрешения на восстановление одной из его комнат. Как по мановению палочки, набрались еще бесквартирники, и дом в скором времени был восстановлен полностью. Шел мятежный девятнадцатый год.
Спустя три года родился брат. Родители любили друг друга, и жизнь у них ладилась.
Потом зачастил Саркис. Отец изготовил «нарды» – игру Востока. С тех пор мы привыкли засыпать под ожесточенный стук пешек о коробку и пронзительный смех коротышки – толстяка при удачно выпавших костях. «Шаш – а Шаш!!!» – кричал он так, что впору было глохнуть. Если же кости показывали малые цифры, карлик ругался по-армянски и заплевывал пол. Ставки были копеечные, и отец от души забавлялся накалом эмоций земляка…
Саркис жил на гроши; питался требухой, а одевался у старьевщика. Отец говорил, что были у Саркиса и лучшие времена: во время НЭПа он работал экспедитором муки, и мог бы озолотиться, но Саркис не от мира сего, стал еще беднее…
Когда я уходил в армию, Саркис сказал:
– Просты, ничего нэ дарю, я бэдный! Но сэрдцэ беры – оно твое!
Года за полтора до моего призыва в армию в семью пришло роковое: не без помощи Саркиса отец спутался с молодой шлюхой, моей ровесницей. Мать выследила отца и застала на месте преступления. Последовала бурная сцена…
Орудием мести мать выбрала Саркиса: стала кокетничать с ним на глазах у отца. Казалось, Саркис только этого и ждал: он сказал отцу, что как земляк и друг его больше у нас бывать не может. И отец, и Саркис были жителями поднебесного аула, по законам которого неверность жен карается смертью на людях: их убивают каменьями, если муж не прирежет раньше…
Отец не прирезал жену, не выставил ее «позор» напоказ, не унизил себя даже сценой ревности: он прекратил интимную близость с нею…
В комнатке – клетушке, в которой мы все жили, не было места для еще одной кровати, и родители продолжали спать в одной постели. Часто, сквозь сон, я слышал приглушенные рыдания матери после очередной попытки к примирению, которые заканчивались одним и тем же: яростным шепотом отец ругался по-армянски, вскакивал с постели и уходил из дому. На следующий день, – после работы, он возвращался домой и, как ни в чем ни бывало, подгонял свою работу экономиста, шутил с нами, детьми, был холодно – вежлив с матерью. Я до сих пор не могу понять, что это было: расчетливая месть горца неверной жене или отвращение к опостылевшей женщине. Я ведь знал, что отец продолжал посещать свою любовницу.
Полгода такой жизни превратили нашу певунью – мать в мрачную замкнутую в себе, постаревшую женщину. В сорок три года она поседела. Вскоре ее парализовало. Отнялась правая половина тела. Ее красивое лицо было обезображено обвисшей губой, щекой и веком. Позже, когда она стала подниматься с постели и, сильно шаркая правой ногой по полу, учиться ходить, много времени проводила у зеркала, внимательно разглядывая ставшее безобразным лицо, и много плакала. А еще позже, стараясь понравиться отцу, стала неумеренно ярко краситься…
Потом – армия, служба в пригороде Кишинева, любимая девушка – невеста, с которой война помешала обвенчаться. Зовут ее Марией.
…Отец принял фронтовую пекарню. Его отпустили, чтобы он эвакуировал семью, вместо этого он увез с собой любовницу…
…Не могу не рассказать о моем лучшем друге, Володе Липатове. В связи с этим вспоминается день, так хорошо начавшийся и так плохо окончившийся. Начался он с последнего звонка в школе, получения аттестата с отличием, пикника в лесопарке. Потом, зная, с каким нетерпением ждут меня родители с аттестатом, я оставил пикник и поехал домой. Не чуя ног, взбежал по лестнице и… замер перед дверью. За нею звучал металлический голос отца:
– Ты давно мне не жена!
И жалкий матери:
– Подумай о детях, Тигран!
– А ты о них думала, когда висла на шее у Саркиса?!
– Не висла я!!!
Отец перешел на ругню по-армянски, что означало высшую степень раздражения. А я ушел, потому что понял: наша семья больше не существует и никогда не поднимется «из пепла»!
Мне необходимо было поделиться горем с человеком, который бы меня понял, и я пошел к Володе Липатову…
…Наша дружба родилась из вражды. До десяти лет мы враждовали, словно две матки в одном улье. Я был перекормленным, медлительным увальнем. Володя – «живчиком». Я был музыкальным, начитанным и дисциплинированным мальчиком. У Володи все было наоборот. Зато – какая дерзость и бесстрашие по отношению к старшим! Единственно, кого боялся Володя, была скорая на руку его мать, – от которой при каждом удобном случае, он норовил улепетнуть на «задний двор». Там были сараи, по которым можно было бегать, а то и проникать внутрь и конфисковать «ненужные вещи». Так, наткнувшись в сарае электрика на ящик со штырями для крепления розеток, Володя тут же решил, что ребятам они нужнее. Действительно: укреплять какие-то там розетки можно и гвоздями, а вот лучших наконечников для стрел не найдешь. И долгое время ребята играли в индейцев по-настоящему смертоносными стрелами. К счастью, войны враждующих племен кончились вмешательством милиции.
Я был вожаком иного толка. Начитанность позволила мне сколотить ребят вокруг себя в поле зрения родителей. Мне удалось насобирать детскую библиотечку, и Володина ватага стала таять на глазах…
Однажды Володя пообещал отколотить меня. Я посоветовал ему «попробовать». Нам предстояло «стукнуться», но от драки я отказался. Презрительно хмыкнув, Володя сказал:
– Куда тебе, пончик с маслом! Что теперь делать будем?
– Давай устроим литературный бой: кто победит, тот и вожак.
– Ладно, собирай своих грамотеев! Посмотрим, кто кого?…
Литературные познания моего оппонента заключались в двух услышанных от матери сказках…
– Не нужно, слушай…
Я прочел по памяти едва ли не всего Корнея Чуковского. Володя с жадностью слушал чудесные сказки. Я уже торжествовал победу, когда Володя, презрительно хмыкнув, обозвал меня «зубрилкой» и убежал на задний двор. С этого дня мы были «в ссоре».
Только через год, поняв, как мне, увальню, недостает подвижных игр, отец помирил нас. С тех пор, до самой мобилизации в армию, мы не помнили дня, проведенного порознь. В результате я стал кулачным бретером заднего двора, а Володя – читателем-маньяком…
Отмахнувшись от моего рассказа о разрыве родителей, о котором ему было известного «со времени оно», Володя сказал:
– Будя! Тут все ясно! Обмоем аттестат, или зажмешь? – кивнул он на портфель.
– Не время.
– Именно – в самый раз! Тем более, что у меня деньжата водятся – на бутылку сухого хватит. Айда в «саванну»!
Нашей «саванной» были залютинские луга по обе стороны замысловато петляющих Уд. Прелесть небольшой речушки заключалась в неухоженных, густо поросших кустарником берегах. Буйные луга, на которых траву косили один раз, когда она достигала в высоту человеческого роста, были нашим заветным местом. Над лугами в ослепительно-голубом просторе парили и кувыркались жаворонки… Выкупавшись, мы забирались в травяные дебри, ложились на спину, и вся голубизна с ликующими певчими пташками становилась нашей. Нам никогда не было скучно вдвоем. Мы могли лежать часами, уставившись в лазурную синь, и думать каждый о своем. Я не помню треволнений, которые бы не растворились бесследно в бездонной глубине…
…Теперь, когда мой город замер в ястребиных когтях фашизма, не верится, что все это было на самом деле: что была дружба – верная и беззаветная; что была Мария и Любовь к ней, чистая и глубокая, как залютинское небо. Все это кажется сном или мечтой несбыточной: такой прекрасной, что и в последнем дыхании будет имя любимой, в последнем воспоминании – имя друга, последней эмоции – достоинство Человека…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
БЕССОННИЦА
1. КОНТУЗИЯТягостное недоуменное отступление. Бесконечные изнурительные бои. Все попытки зацепиться за местность, остановиться, дать, наконец, отпор фашистам, кончались массированными налетами вражеских самолетов, что, появившись у горизонта, походили на стайку комаров. Шум их моторов также напоминал издали комариное жужжание, тонкое, отличное от шума моторов наших самолетов. Шум быстро нарастал, жужжание превращалось в визг – самолеты пикировали, сбрасывали свой смертоносный груз, разворачивались для второго захода, снова пикировали и «поливали» зацепившихся было за позиции бойцов свинцовым густым дождем. И так на протяжении дня: боеприпасов у них хватало. В то время увидеть в небе наш боевой самолет было большой редкостью, и фашисты шалели от вседозволенности. От нашего подразделения осталась едва ли третья часть, когда меня контузило и основательно присыпало землей. Одним словом, наши отступили дальше, а я остался рядом с воронкой от разрыва бомбы. Освободившись из-под земли, преодолевая боль в лобной и височных частях головы, сел и стал ощупывать голову, грудь, живот, спину, ноги. С радостью убедился в том, что не ранен. Это было здорово – остаться целым после такой бомбежки! Но радость длилась недолго – в левой кирзушке я обнаружил пулевое отверстие, снял сапог и увидел кровь. Вот это «подарок!». Как же я своих догонять буду?!
К счастью, ранение оказалось мягкотканым, поверхностным – пуля задела лишь кожу голени. Там, у воронки, я этого не знал и решил опробовать ногу. И почти не почувствовал боли: должно быть не проходящая головная боль заглушала незначительную саднящую боль в ноге. Сделав несколько шагов, присел и перевязал царапину.
Часов у меня не было, и я не знал, который час и сколько пролежал под слоем земли. Направление отступления моего подразделения было известно – на Восток, ибо не было иного направления для отступления армии…
Я поднялся снова и один-одинешенек зашагал по мертвому полю, изрытому окопами. После серии авианалетов была танковая атака – это я понял по нескольким подбитым танкам врага. За ними прошла пехота – это видно по трупам фашистов, которых было значительно меньше трупов наших бойцов: сказывалось и пораженческое настроение – чего уж греха таить. Там, где терпят поражение, и настроение бывает пораженческое. Сказывалось и отсутствие боеприпасов, и острый некомплект воинских частей.
Прошел по окопам своего подразделения в надежде найти живую душу, но живых не было, значит, фашисты достреливали раненых. Я узнавал своих боевых товарищей и низко им кланялся: больше для них ничего не мог сделать, ибо головная боль такая, что о захоронении трупов не могло быть и речи.
По количеству убитых определил, что в подразделении осталось не более пятой части первоначального состава, если вообще живые остались; если по дороге в очередном бою они не были уничтожены полностью.
Был конец самого трудного, пожалуй, дня из всех тяжелейших дней отступления. Для нас, измученных почти абсолютным голодом, боями и беспросветным отступлением бойцов, этот день сложился особенно неудачно. Во-первых, место для обороны было, как на ладони. Фашисты загнали наш полк на эту «ладонь», чтобы покончить с нами окончательно. Должно быть, надоело драться на равных: отступая, мы все время давали фашистам, как правило, бой на подготовленных позициях. Наш командир полка еще в первую мировую сражался с немцами и еще тогда научился их бить. Но за неделю до событий этого дня, он был убит, а заменивший его полковой комиссар, отличавшийся личной храбростью, в тактике ведения боя оказался не на высоте, что и позволило немцам навязать нам свою.
Ставший большим и близким, «медный таз» солнца наполовину скрылся за потемневшим лесом с позолотившимися верхушками крон. К лесу, занимавшему значительную площадь, до которого около двух километров, я и направился, что было рисковано – нужно бы подождать до темноты. Но это было свыше моих сил – не мог больше смотреть на разгром своей воинской части. Боялся ли леса, чужого, уже темного, способного ежеминутно преподнести самые неожиданные сюрпризы? Нет, после разгрома нашей воинской части меня уже ничто не могло ни испугать, ни огорчить. Кроме того, контузия притупила все без исключения чувства, в том числе и чувство страха.
Я не спешил – не мог спешить: каждый шаг как бы сотрясал мозг, вызывая острую боль. Поэтому добирался до леса не менее часа. А когда все же добрался, понял, что исчерпал на это все силы и дальше идти не смогу.
В лес вошел, ощупывая невидимые уже стволы деревьев, углубился метров на пятьдесят и опустился на мягкую подстилку из не полностью сгнивших прошлогодних листьев. Там, на поле последнего боя, когда я. превозмогая головную боль, обходил окопы, прощаясь с погибшими, у одного из них увидел в руке пистолет «ТТ» и тут же сменил его на свою, ставшую ненужной из-за отсутствия патронов винтовку. Поместил пистолет за поясом галифе. Улегшись на лесную подстилку, я нащупал оружие, чтобы убедиться в том, что оно на месте, и успокоился.
Головная боль не ослабевала. Болели уши и глазные яблоки. Понимал, что только сон может помочь мне, но он как раз и не шел почти до самого рассвета.
Это была ночь воспоминаний детства, отрочества и юности вплоть до последнего злополучного боя. Воспоминания отвлекали от головной боли, успокаивали, как успокаивают журчанием ручейки, но сон не приходил. Постепенно я переключился с воспоминаний прошлого к логике его. В бессонные ночи легко, а иногда удивительно легко, думается, мысли, словно парят, толпятся и торопят друг дружку, чтобы успеть родиться и прожить коротенькую жизнь от рождения до появления следующей мысли. Однако, это не значит, что во время бессонницы мысли так же случайны, как это бывает со стеклышками в калейдоскопах: течение их, как правило, последовательно и логично; во всяком случае гораздо последовательнее и логичнее, чем это бывает во время дневного бодрствования. Я уверен, что самые значительные открытия совершаются во время ночных бессонниц. В эту ночь я сделал свое, поразившее меня своей очевидностью, невероятное, однако, открытие. Но, чтобы быть понятым, я считаю необходимым самому до конца разобраться со всем передуманным в ту ночь.
2. СЕМЬЯНу, во-первых, воспоминания о детстве.
О раннем детстве я мало что помню, разве только то, что страшно было оставаться одному в квартире, когда отец уходил на работу, а мать – в поход по магазинам за продуктами. Да вот еще…, но это уже не по памяти, а по рассказу счастливых родителей, который они передавали с неизменным юмором каждому, кто еще до того не слышал об этом. Каждый раз, оставшись в квартире, то ли со страху, то ли по привычке, обделывал простынку. После этого на меня находило вдохновение, и я принимался за писание пальцем или ладошкой очередной картины на стене у кроватки – ковриков тогда не было. Само собою, мои картины были сугубо сюрреалистическими, ибо малевал я их не красками, а собственными экскрементами. Должно быть, «картины» мне нравились, потому что, по словам матери (едва она принималась за отмывание стены), поднимал сердитый рев.
Эти события были «заповедной ценностью» нашей семьи. Спустя четыре года у меня появился брат. Конечно же, как и у всякого малыша у него были свои «заповедные ценности» для родителей, но пальма первенства постоянно была моей.
Я очень рано уяснил себе сладость обладания пальмой первенства в семье, с братом обращался постоянно свысока. Основным критерием своей оценки умственных способностей родителей считал их глупость и обращался с ними соответственно, без «китайских церемоний». Они это воспринимали юмористически, пропуская мимо ушей не всегда приятный для слуха «цыплячий» критицизм. Как-то уж так получалось, что чем взрослее я становился, тем очевиднее для меня становилась родительская «глупость», тем лаконичнее и суровее обращался с ними.
Я действительно был вундеркиндом: в пять лет бегло читал, легко запоминал прочитанное и умел почерпнуть главное из него. Отлично считал. Неплохо рисовал.
Когда пошел в первый класс школы, отец купил мне мандолину и срочно стал осваивать ее с тем, чтобы, научившись играть, научить тому же и меня. И тут я взошел на новый пьедестал – пьедестал уникума на музыкальной ниве: намного превзошел отца в музыкальных способностях.
В школе, с первого и до последнего дня, то есть до окончания десятилетки, учился исключительно на «отлично».
Что касается брата Гриши, то он по всем статьям отставал от меня: долгое время читал по складам, тут же забывая прочитанное, тем более, что будучи рассеянным, постоянно упускал главное из него. С арифметикой, а потом и с математикой не ладил, как, впрочем, и с остальными предметами. С музыкой то же.
Там, в лесу, на подстилке из прошлогодних листьев, вспоминая все это и по новому оценивая и родителей с их несложившейся в последующем семейной жизнью, и младшего брата с его уникальной способностью быть и добрым, и всепрощающим и, главное уникальной способностью не быть эгоистом, вроде меня, готов был, что называется, провалиться сквозь землю от стыда за свой эгоизм. Как мне захотелось находиться сейчас с ними вместе, защитить их ценою жизни, если это понадобится! Я имел в виду мать и брата. Что касается отца, то я знал из письма, полученного в начале войны, что он эвакуировался с другой, молодой женой, свою же семью оставил в Харькове на «милость» фашистам, а ведь мама принадлежала к опальной нации, обреченной Гитлером на геноцид! С отцом я не желал встречаться вовсе. Уверен, что если бы отец был настоящим человеком, то, несмотря на разрыв с женой, он смог бы ее эвакуировать, а с нею и восемнадцатилетнего Гришу. Он этого не сделал. Что ж, значит, у меня нет больше отца…
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, а это было в 1933 году, мы получили «хорошую» квартиру на Дмитриевской. Это была однокомнатная квартира с общественной кухней, так называемая, коммунальная. Уж не потому ли, что в комнате площадью десять квадратных метров проживать стало сразу четверо членов семьи? Правда, в квартире на Дмитриевской была общественная кухня, которой не было на прежней квартире, и мы больше не готовили пищу на примусе в комнате.
Может, поэтому она и называлась коммунальной, от слова коммуна, что означает – вместе? Только, как я убедился вскоре, общественная кухня – далеко «не Рио-де-Жанейро». Иногда я даже с тоской вспоминал шум примуса в нашей комнатке в Горлановском дворе, запах керосина и гари и возню матери приготавливающей пишу с обязательным мурлыканьем под нос какой-нибудь опереточной арии.
Она обожала оперетту и при всяком удобном случае посещала ее. Музыкальностью ее Бог не обделил. И, хотя она не играла ни на одном из инструментов, пела отлично. Не знаю, как на работе (она работала буфетчицей), но дома во время бесконечной домашней возни (ведь ей нужно было обслужить трех мужчин, двое из которых категорически отказывались унижать свое мужское достоинство помощью женщине: этими «двумя» были отец и я – «умник») она постоянно пела. И только Гриша пытался хоть чем-нибудь помочь матери.
Итак, мы переехали на «хорошую» квартиру. Об этом говорили все жители нашего бывшего двора, которым о такой квартире и мечтать было «зась». Еще бы: сухая, с общественной кухней! Правда, наша квартира на Усовской была тоже сухая, так как мы жили на втором этаже двухэтажки, на котором ютилось еще три семьи, но там не было общественной кухни, о которой так молитвенно мечталось тем, у кого ее не было, то есть, большинству населения Харькова. Об индивидуальных кухнях в те далекие двадцатые, да и в тридцатые годы, и говорить нечего – их имели единицы.