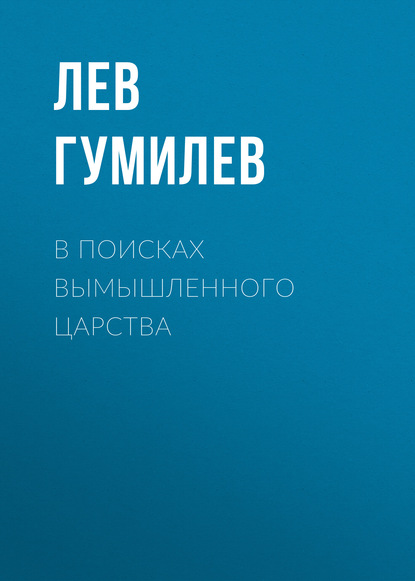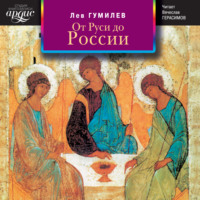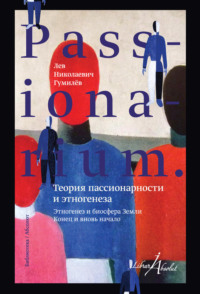Полная версия
История народа хунну
Таким образом, можно сказать, что жертвы приносились не богу войны Ильбису[107] , а духам предков, очевидно, очень кровожадным.
Особенно важен следующий вывод А.П. Окладникова: в глазковское время произошло «появление нового похоронного обряда, обусловленного идеей о существовании подземного мира, в который ведет река мертвых, и замена старой обрядности, имевшей в основе иные представления о судьбе покойников в загробном мире»[108] .
Эта смена мировоззрения сопоставляется с переходом от матриархата к патриархальному родовому строю. Она радикально меняет все жизнепонимание и прежде всего отражается на культе предков: «По воззрениям этого времени возвращение мертвых приносит несчастья и беды живым, тогда как ранее оно считалось неизбежным и желанным звеном круговорота жизни и смерти»[109] . С этой точки зрения понятны «искупительные» и «благодарственные» жертвы духам предков как воздаяние за невмешательство в земные дела.
В связи с этим мировоззрением возникает дуалистическая система: небо – отец – добро и земля – мать – смерть, и отсюда вытекает солярный культ, выразившийся в изготовлении дисков и колец из белого нефрита. А.П. Окладников предполагает, что культ солнца в Прибайкалье заменил существовавший ранее культ зверя.
Наконец последним интереснейшим наблюдением и выводом А.П. Окладникова является интерпретация двух захоронений глазковского времени как шаманских[110] . Однако надо признать, что шаманизм, т.е. близкое, даже сексуальное, общение с духами отнюдь не соответствует описанному выше мировоззрению, и если признать, что описанные погребения действительно шаманские, то правильнее сделать вывод, что они позднейшего происхождения, т.е. датировать их после 1200 г. до н.э. и сопоставить с южным шаманизмом, уже существовавшим в Китае и пришедшим в Сибирь, очевидно, вместе с хуннами. Такое предположение не противоречит ни общей концепции А.П. Окладникова, ни собранному им материалу, ибо он сам сопоставляет костяные ложки из погребения, обнаруженного около деревни Аносово, с бронзовыми ложками из Ордоса[111] . Предположение, что шаманизм возник в Сибири самостоятельно на базе развития более древних верований, не только не доказано, но, по-видимому, и не может быть доказано; наоборот, культурные связи Сибири и Дальнего Востока прослеживаются с бронзового века.
Описание культуры и общественного строя рыболовческих племен Прибайкалья имеет для нашей темы второстепенное, но существенное значение. Хунны тысячу лет впитывали в себя и перерабатывали эту культуру, и самостоятельный облик хуннской культуры, столь отличный от китайского и даже противоположный ему, есть следствие этого факта. Почти все отмеченные обряды мы встретим с некоторыми изменениями в державе Хунну во II веке до н.э. Поэтому исследования и выводы А.П. Окладникова приобретают особую ценность: они выясняют второй исток того творческого своеобразия, которое нашло свое воплощение в создании державы Хунну и кочевой культуры.
Продвижение хуннов на север
А.П. Окладников выделил в особый этап шиверскую культуру, возникшую от соприкосновения древних хуннов с древними тунгусами. От предшествующего глазковского этапа она отличается бурным развитием металлической техники и появлением «удивительной близости к особенностям примитивных топоров кельтов и архаического Китая иньской (или шанской) династии»[112] . Наконечники копий также повторяют иньские, а кинжалы и ножи принадлежат к архаическим вариантам карасукских плоских кинжалов.
Учитывая прослеженный нами ход событий, мы можем с уверенностью датировать эту культуру началом I тысячелетия до н.э. Ведь хунны были врагами Чжоу и, следовательно, друзьями Шан-Инь[113] . Будучи выбиты из Китая У-ваном в самом конце XII века, они перенесли заимствованные у китайцев навыки и формы в Сибирь; таким образом, для Сибири вещи, сходные с аньянскими, должны датироваться эпохой, непосредственно следующей за гибелью царства Шан-Инь. Но это не следует распространять на область идеологии, так как разница в быте и хозяйственном укладе у кочевников и китайцев исключала прямое заимствование.
Итак, мы вправе констатировать, что шиверский этап прибайкальской культуры и карасукская культура не только синхронны, но и возникли по одной и той же причине. Однако судьба их была различна.
Западный отряд хуннов, переваливший за Саяны, оказался окруженным воинственными динлинами и изолированным от основной массы своих соплеменников. Как бы ни шла борьба, но победили динлины[114] .
Тагарская культура мощно перекрыла карасукскую, местная традиция восторжествовала над пришлой. По новейшим измерениям, карасукские черепа напоминают больше всего черепа узбеков и таджиков (сообщено В.П. Алексеевым), а это значит, что, как и в Средней Азии, монголоидный компонент был поглощен европеоидным.
Карасукская культура была распространена гораздо шире, чем антропологический тип ее носителей[115] . Она широко взаимодействовала с предшествовавшей андроновской культурой и оставила след на последующей тагарской. Это позволяет допустить, что внедрившиеся с юга пришельцы быстро установили с аборигенами мирные отношения и, оплодотворив их культуру своей, растворились в их массе.
Не то было на востоке. Близкие по крови к хуннам и менее организованные прибайкальские племена подчинились им, и к III веку до н.э. вся Центральная Монголия и степное Забайкалье составили основную территорию хуннов. Борьба за степные просторы заняла, видимо, около 300 лет, и в Китае все это время про хуннов не было слышно. В эти 300 лет формировался новый народ, смешиваясь с аборигенами и совершенствуя свою культуру (например, технику бронзы). А в Китае за это же время династия Чжоу разложилась и пришла в упадок. Но, кроме китайцев, у хуннов было еще немало других соседей.
Соседи древних хуннов
Жуны занимали территорию, весьма однородную по ландшафту и монолитную: на северо-западе они населяли оазис Хами[116] , где граничили с индоевропейскими чешисцами, обитавшими в Турфане; на юго-западе они владели берегами озера Лобнор и Черчен-Дарьи, примыкая к Хотану и горам Алтынтага, где кочевали тибетцы – жокянь (или эрркян); жунам принадлежало также плоскогорье Цайдам, а родственные им племена ди жили в северной Сычуани. Но главная масса жунских племен группировалась в Северном Китае. В провинции Хэбэй жили племена: бэйжун (они же шаньжун), цзяши (ответвление племени чиди), сяньлюй, фэй и гу (ответвления племени байди), учжун. Общее их название было– бэйди. На западе жили племена, получившие общее название жунди. Они обитали среди китайского населения, не смешиваясь с ним, в провинциях: Шэньси – дажуны, лижуны, цюаньжуны; Ганьсу – сяожуны; Хэнани и Шаньси – маожуны, байди, чиди, цянцзюжуны, луши, люсюй и дочэнь[117] . К жунскому племени принадлежали кочевые племена лэуфань и баянь. Лэуфань вначале помещались в Шаньси (в области современной Тайюань)[118] , но потом мы застаем их в Ордосе. Очевидно, именно их имел в виду Птоломей, рассказывая о народе серов, живущих по соседству с синами – китайцами.
Самое восточное из жунских племен – шаньжуны жили в южном Хингане, соседствуя с дунху и хуннами. Местопребывание хуннов в древности точно определено в «Цзиньшу», гл. 97[119] . Хуннская земля на юге соединялась с уделами Янь и Чжао (современные провинции Хэбэй и Шаньси), на севере достигала Шамо, на востоке примыкала к северным и, а на западе доходила до шести жунских племен, т.е. древние границы распространения хуннов совпадали с современными границами Внутренней Монголии без Барги. Впоследствии они сузились, так как степи к востоку от Хингана заселили дунху, точнее хоры, народ монгольской расы. Необходимо отметить, что северокитайский тип весьма разнится от монгольского. Китайцы узколицы, худощавы, стройны, а монголы широкоскулы, низкорослы, коренасты. В степи мы наблюдаем оба типа: чистых монголов китайцы называли дунху, т.е. восточные ху, а среди ху-хуннов преобладал китайский узколицый тип с примесью динлинских черт, например высоких носов[120] . Разумеется, хунны и дунху-хоры на протяжении веков смешивались, и это смешение определило в значительной степени характер хуннов: динлинская неукротимость сочеталась с китайской любовью к системе и с монгольской выносливостью.
К северу от хуннов обитали динлины. Они населяли оба склона Саянского хребта от Енисея до Селенги. На Енисее помещались кыргызы (по-китайски – «цигу») – народ, возникший от смешения динлинов с неизвестным племенем гянь-гунь, а на запад от них, на северном склоне Алтая, жили кипчаки (по-китайски – «кюеше»), по внешнему виду похожие на динлинов и, вероятно, родственные им.
Начиная с V века до н.э. в китайских хрониках появляется упоминание о юэчжах, кочевом народе, жившем в Хэси, т.е. в степях к западу от Ордоса. Территория их определяется «от Дунь-хуана на север, от Великой стены при Ордосе – на северо-запад до Хами»[121] . Однако эта территория не могла быть родиной многочисленного юэчжийского народа, так как в эту же эпоху китайская география помещает сюда усуней и чиди-уйгуров. До V века о юэчжах китайцы не пишут, чего не могло быть, если бы те занимали столь близкую к Китаю область. Отсюда вытекает, что юэчжи овладели Хэси в V веке до н.э., имея уже вполне освоенную базу для наступления; такой базой могла быть только Джунгария, ибо Центральная Монголия была уже занята хуннами, а западная – кипчаками и гяньгунями[122] .
Переходим к последнему и наиболее загадочному белокурому народу – северным бома. Бома населяли северные склоны Саяно-Алтая[123] . Известно о них следующее: «Они ведут кочевой образ жизни; предпочитают селиться среди гор, поросших хвойным лесом, пашут лошадьми; все их лошади пегие, откуда и название страны – Бома (пегая лошадь).
К северу их земли простираются до моря. Они ведут частые войны с хагасами, которых очень напоминают лицом; но языки у них разные, и они не понимают друг друга. Дома строят из дерева. Покровом деревянного сруба служит древесная кора. Они делятся на мелкие кланы и не имеют общего начальника»[124] . В переводе Н.Я. Бичурина находим некоторые отличия: так, например, масть лошадей – саврасая, верхом бома не ездили, а держали лошадей только из-за молока, войско бома исчислено в 30 000 человек[125] .
Итак, это был народ по сибирским масштабам крупный. К счастью, мы имеем подлинные названия его в китайской передаче: бице-бике и олочже[126] . Отсюда становится понятно, что бома – просто кличка, и сопоставление сибирских бома с ганасуйскими необосновано, тем более что они пишутся разными иероглифами[127] . Этнонимы их совпадают с бикинами, древним племенем, упомянутым Рашид ад-Дином, и алакчинами, о которых Абулгази пишет, что «у них все лошади пеги, а очаги золотые». Страну Алакчин он помещает на Ангаре[128] . Таким образом, мы не можем причислять бома ни к дили, ни к динлинам.
Локализовав алакчинов, обратимся к антропологии Прибайкалья. Там в неолитическую эпоху, вероятно, очень затянувшуюся, намечаются три типа: 1) эскимоидный – на среднем течении Ангары, где нет европеоидной примеси; 2) палеосибирский – на верхнем течении Ангары и Лены и 3) европеоидный, просочившийся из Саяно-Алтая и смешавшийся с аборигенами. Область распространения этого типа в Прибайкалье ограничивается южными его районами, прилегающими к островкам степей или черноземных почв, цепочка которых тянется от Минусинского края до Канской степи примерно вдоль линии нынешней железной дороги[129] . Сходную картину мы наблюдаем и в Красноярском крае[130] .
Итак, наличие северных бома, вернее, алакчинов и бикинов, подтверждается. Этническое различие их с динлинами при расовом сходстве не должно нас ни удивлять, ни поражать. Распространены они были, вероятно, очень широко: от Алтая до Байкала, рассеянными группами, как многие другие сибирские племена.
III. На берегах «песчаного моря»
Первое вторжение хуннов в Китай
Кончался IX век. В Китае чжоуские ваны уже теряли свою мощь, и ван Сюань стал опасаться недовольства своих подданных, склонных к мятежу.
В это время впервые показали себя миру хунны, которых китайская поэзия окрестила «небесными гордецами», а грубая проза – «злыми невольниками».
Первое поэтическое известие о хуннах, уже обновленных, сформировавшихся и потому грозных, относится к 822 г. до н.э. В одной из од «Книги песен» описывается вторжение хуннов[131] в Китай:
В шестой месяц[132] , какое смятение!Боевые колесницы стоят наготове,В каждую запряжено четыре статных коня,Они снаряжены, как это обычно делается.Хунну яростно вторглись,Поэтому мы должны были спешно выступить;Чтобы освободить столицу,Царь[133] приказал выступить в поход.Мы победили Хунну,Проявив великую храбрость…Хунну плохо рассчитали,Заняв Цяо и Ху,Захватив Хао и Фэнь[134] ,Дойдя до северной части реки Цзинь.Наши знамена, украшенные изображениями птиц,Развевались своими белыми складками.Десять военных колесниц мчались впереди…Мы победили Хунну.Это пример для десяти тысяч (т.е. многих) стран[135] .Данные слишком скудны, чтобы оценить поход хуннов по достоинству. Не совсем ясно, был ли это просто удачный грабительский набег или серьезная война, рассчитанная на захват территории. Первое вероятнее, но и в этом случае, видимо, действовали большие и организованные массы. Для отражения противника потребовалась мобилизация, и все-таки война была нелегкой.
Тем более странно, что после этого хунны опять не упоминаются около 500 лет. Очевидно, их оттеснили на север жуны[136] .
Борьба жунов и китайцев
Власть чжоуских ванов держалась «на острие копья». Это положение не могло длиться бесконечно. В 842 г. до н.э. население столицы восстало против Ли-вана и штурмовало дворец. Ли-ван бежал. Власть взяли в свои руки сановники Чжоу-гун и Чжао-гун, которые пошли навстречу требованиям восставшего народа. Эпоха их регентства (842–827) получила характерное название «Всеобщее согласие» (Гунхэ). Этой ценой была спасена династия, но мощь ее не восстановилась, несмотря на удачное отражение хуннов и победоносную войну с царством Сюй на юго-востоке Китая.
Пока феодальных и удельных владений в Китае было много, размер их был очень мал. Поэтому ван (царь) имел бесспорное преимущество перед любым из своих князей. Но когда владения укрупнились, пропорционально выросла сила отдельных князей, и ванам пришлось с ними считаться. Однако это не всегда было так: нередко личные интересы и страсти вмешивались в политические расчеты и опрокидывали их. Так, например, Ю-ван, влюбившись в красавицу Бао-сы, стал пренебрегать своей законной супругой, дочерью князя Шэня. Последний вступился за оскорбленную дочь; возник конфликт между феодалами, причем обиженный вельможа попросил помощи у соседних племен «варваров». Тут и начали контрнаступление жуны и ди. В 771 г. гуаньжуны вмешались в феодальную войну и вторглись в Китай. Ю-ван пал в битве, и гуаньжуны осели на китайских землях. Они заняли область между реками Гин и Вэй «и продолжали утеснять Серединное Государство»[137] . Пин-ван из дома Чжоу, не сумев отбиться от наседавшего врага, ушел на восток в Лоян, но гуаньжунов отразил князь Сян в 770 г. до н.э. С этого времени начинается фактический распад княжества Чжоу.
Несколько позднее активизировались на востоке шаньжуны. В 706 г. они прорвались сквозь княжество Янь и княжество Ци и разбили князя Ци под стенами его столицы. Только через 44 года Хуань-гун, князь удела Ци, выгнал их из пределов Китая[138] . Однако распри по-прежнему мешали китайцам объединять свои силы, и в 644 г. жуны разорили удел Цзинь, князь которого был главою имперского союза. В 642 г. они пришли на помощь своему бывшему врагу – мятежному князю удела Ци, и произвели опустошительный набег на удел Вэй.
Но наибольших успехов жуны достигли в 636 г. до н.э. Великий князь Сян-ван из политических соображений женился на княжне из жунов. Однако молодая княгиня стала участницей заговора против него одной из придворных клик. Они привели своих соплеменников, а ее друзья отворили им ворота столицы, и великому князю пришлось бежать. Четыре года грабили жуны беззащитный Китай, пока Вэнь-гун, князь удела Цзинь, добивался согласия имперского сейма на вручение ему полномочий на изгнание жунов и восстановление порядка. Только в 632 г. он изгнал их из столицы и казнил изменника, узурпатора – князя удела Дай. Тогда же циньский Му-гун (659–621) уничтожил 12 владений жунов на западе и вернул Китаю земли Чжоу.
Однако жуны не были разбиты, и борьба продолжалась до 569 г., когда они заключили мир с уделом Цзинь[139] . В V веке перевес склонился на сторону китайцев. Чжао-ван, князь удела Цзинь, завоевал царство икюйских жунов в Шэньси и восточном Ганьсу. By Лин, князь Чжао, покорил в Ордосе лэуфань и линьху, а Цинь Кай, полководец княжества Янь, «внезапным нападением разгромил Дун-ху»[140] .
Каким образом окончательная победа досталась китайцам, убедительно показано ими самими. Жуны занимали огромную территорию и делились на множество больших и малых племен. «Все сии поколения рассеянно обитали по горным долинам, имели своих государей и старейшин, нередко собирались в большом числе родов, но не могли соединиться»[141] . До тех пор, пока в самом Китае царила феодальная раздробленность, жуны могли иметь частные успехи, но как только владения укрупнились и князья стали царями, централизованная сила победила храбрых жунов. Каменные замки оказались более надежными убежищами, чем горные ущелья. Икюйские жуны попробовали было подражать китайцам и построили ряд крепостей. Но китайцы уже владели осадной техникой и без труда взяли их замки. Кроме того, мы не знаем, каковы были отношения между жунами и хуннами. Вряд ли они были друзьями. А если так, то положение жунов должно было быть трагично: зажатые между Китаем и Великой степью, они не имели тыла, а горные долины, где они пытались укрыться от наступавшего врага, оказались ловушками, не имевшими выхода, не убежищем, а местом гибели.
В результате пятивековой борьбы жуны были разделены на две части: основная была оттеснена на запад, к горному озеру Кукунор, а другая – на восток, в горы Хингана, где и растворилась среди восточных ху[142] , затаив вражду против китайцев. В результате в III веке до н.э. сложился племенной союз дунху, захвативший гегемонию в восточной части Великой степи. В это же время вновь ожили и вернулись к активной исторической жизни народы западной части Степи.
В 250 г. до н.э. парфяне, возглавив иранское освободительное движение, выгнали из Мидии завоевателей македонян, а родственные им сарматы завоевали Скифию, т.е. причерноморские степи[143] .
Как будто каким-то мощным толчком были приведены в движение степные народы в середине III века до н.э.
Культура плиточных могил
В то время когда китайцы и жуны уничтожали друг друга в истребительных войнах, в степях Центральной Монголии и Южного Забайкалья сложилась оригинальная культура, которой предстояло большая будущность. Это так называемая «культура плиточных могил», а по сути дела – ранний этап самостоятельной хуннской культуры. Она исследована Г.И. Боровкой[144] и Г.П. Сосновским[145] , но законченное описание ее принадлежит А.П. Окладникову[146] . Эти могилы, вытянутые цепочками с юга на север, содержат великолепные изделия из бронзы. Описание их я опускаю, так как оно имеется в работах указанных авторов, и, опираясь на характеристику культуры плиточных могил, данную А.П. Окладниковым, попробую перейти к интерпретации.
Судя по дошедшим до нас материалам, основным занятием людей, оставивших плиточные могилы, было скотоводство; к тому же они в совершенстве владели техникой литейного дела. В могилах обнаружены раковины-каури из Индийского океана, белые цилиндрические бусы из пирофиллита, фрагменты сосудов-триподов китайских форм. Это указывает на широту культурных связей, которые простирались от Китая до Алтая, Минусинской котловины и Средней Азии. Однако еще незаметно следов классового расслоения: «расположение могил указывает на прочность общинно-родовых связей»[147] . Это не значит, конечно, что не было богатых или бедных семей, но и те и другие находились в рамках патриархального рода. Патриархальный род – это строй аристократический. Заслуженные воины, старейшины и вожди составляют его верхушку, и их могилы должны иметь отличие от могил рядовых их соплеменников. Таковыми являются «оленные камни», т.е. плиты, украшенные изображениями оленей, солнечного диска и оружия. На изготовление их затрачивался труд настолько большой, что он был непосилен одной семье покойника. Очевидно, это было общественным делом[148] . Антропологический тип на протяжении всего I тысячелетия до н.э. не менялся; именно в эту эпоху складывался и сложился характерный палеосибирский тип, справедливо приписываемый хуннам[149] .
В чем же различие культуры плиточных могил[150] и последующей, непосредственно примыкающей к ней хуннской культуры? Во-первых, хунны широко использовали железо, которое в плиточных могилах встречается редко. Этот факт получает крайне простое объяснение. Первоначально степняки получали железо с юга от тибетцев-кянов[151] . Сомкнулись они с ними около 205 г. до н.э.[152] , и только тогда железо потекло в Степь широким потоком. Во-вторых, у хуннов мы обнаруживаем царские могилы. И это понятно, так как лишь в 209 г. до н.э. произошла консолидация родов и была установлена твердая центральная власть, а до этого хунны были просто конфедерацией родов. Значит, появление царских могил – не что иное, как этап истории одного народа. Все прочие черты совпадают, и, следовательно, вышеприведенная характеристика относится к раннехуннскому обществу, точнее, к становлению его в IX–IV веках до н.э. В IV веке хунны усилились настолько, что перешли обратно на южную сторону Гоби[153] , и китайцы, только что одержав победу над бэйди, были вынуждены защищаться от нового врага, учитывая его особую стратегию и непривычную тактику. Памятники этого столкновения – Великая китайская стена и плиточные могилы во Внутренней Монголии[154] .
О языке хуннов
Вопросу о языке, на котором говорили хунны, посвящена большая литература, ныне в значительной степени потерявшая значение[155] . Сиратори доказывал, что известные нам хуннские слова – тюркские и единственная хуннская фраза, дошедшая до нас, – тюркская[156] . Исследования финских ученых поставили вопрос о хуннском языке в несколько иную плоскость: Кастрен[157] и Рамстедт[158] высказали мнение, что хуннский язык был общим для предков тюрков и монголов. Пельо отметил, что он включает в себя элементы еще более древнего слоя[159] . Лигети оставляет вопрос о хуннском языке открытым, ссылаясь на то, что хуннское слово, обозначающее «сапоги», известное нам в китайской транскрипции, звучит «сагдак» и не имеет аналогий ни в тюркских, ни в монгольском языках. Приведенное им сопоставление с кетским словом «сегди» не удовлетворяет самого автора[160] .
Однако это слово имеет прямое отношение к старорусскому слову «сагайдак», т.е. колчан со стрелами и луком. Оно тюрко-монгольского происхождения и было в употреблении в XVI–XVII веках. Связь его с хуннским словом «сагдак» совершенно очевидна, так как хунны затыкали за голенища стрелы, которые не помещались в колчане[161] , как впоследствии делали русские, затыкая туда ножи. Итак, слово «сагдак» восходит, возможно, к той же тюрко-монгольской языковой стихии, которая в I тысячелетии до н.э. была еще, очевидно, слабо дифференцирована; но возможно также, что общность известных нам хуннских и монгольских слов объясняется культурным обменом между народами, которых тесно связывала историческая судьба. Несмотря на приведенные соображения, можно думать, что сомнение в тюркоязычии хуннов несостоятельно, так как имеется прямое указание источника на близость языков хуннского и телеского[162] , т.е. уйгурского, о принадлежности которого не может быть двух мнений. Сам Лигети указывает, что сомнения в тюркоязычии хуннов основаны на анализе специальных «культурных слов», которые очень часто оказываются заимствованными, в чем нет ничего удивительного, так как общение хуннов с соседями было продолжительным и интенсивным.
IV. Великая стена
Война хуннов с княжеством Чжао
Победа, которую предки китайцев одержали над окружавшими их со всех сторон враждебными племенами (жунди, кянов, маней, юэ и пр.), далась им очень нелегко и стоила недешево. Но даже после того, как внутри китайских земель были уничтожены жунские княжества и подчинены племена, граничившие непосредственно с царствами, образовавшимися в результате укрупнения феодальных княжеств, китайцы чувствовали себя на своей земле, как на острове, окруженном враждебной стихией.
Об этом весьма красочно повествует стихотворение Цюй Юаня «Призывание души»[163] . Изложенная там географическая концепция заслуживает внимания.
Восточной стороне не доверяйся,Там великаны хищные живутИ душами питаются людскими;Там десять солнц всплывают в небесахИ расплавляют руды и каменья,Но люди там привычны ко всему…Любопытно, что о море нет ни слова. В эпоху Цюй Юаня восточные юэ – «хищные великаны» – еще держались в Цзян-нани и доставляли китайцам больше неприятностей, чем не освоенное для плавания море. О юге сказано следующее: