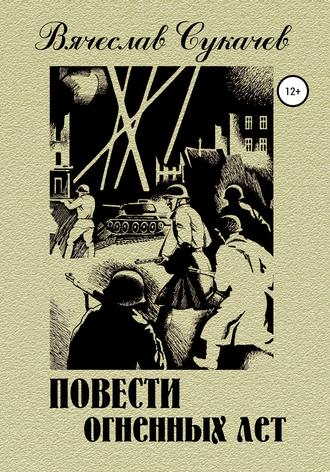
Полная версия
Повести огненных лет
– А я вот под конец войны в шпионы угодил, – вяло, бесцветно сказал Осип, потянулся за рюмкой, разом выплеснул водку в себя и закашлялся. Никита несколько раз хлопнул его по спине. – Брось, – откашлялся Осип и вымученно улыбнулся, – это не оттого, этот кашель хлопками не выбьешь. Серафима, а ты чего молчишь-то сегодня?
– Вас слушаю.
– Вот всегда так, – словно бы пожаловался Никите Осип, – молчит. Курит одну за другой и помалкивает, ровно ей и сказать нечего.
– А чего говорить-то? – вздохнула Серафима, – на свете много говорено и без моего.
– Так вот, в шпионы я попал, – Осип выжидающе посмотрел на Никиту, а потом вдруг изумленно возмутился: – Четыре года провоевал – и шпион… Ах, дышло тебе поперек горла, тьфу! – Осип опять закашлялся, и Никита с жалостью смотрел на него. – В разведку нас послали, троих… А немец на прорыв пошел. Двоих-то и уложило, а я в овражке схоронился… Через два дня немца отбили, я к своим, едва живой добрался, а меня – под конвой. Почему, говорят, один вернулся? Дак убило двоих-то, отвечаю… А почему ты живой? Дак бог милостив, спасся на этот раз, повезло, значит… Ну, а почему немец на прорыв пошел, когда мы резервы на другой фронт бросили? Дак это вы его спросите, говорю им. А мы тебя спрашиваем, потому как ты в это время на той стороне линии фронта был и странным образом в живых остался. Вот так и пошло-поехало. Домой вернулся в пятьдесят четвертом – мне руки не подают. Спасибо вот Серафиме, оборонила. Себе беды нажила, но выручила, а так бы – каюк.
– Какая уж там беда, – отмахнулась Серафима, – да и не я одна, а Мотька Лукина, а Иван Новосильцев? Или забыл уже?
– Так они уже после тебя, – возразил Осип. – Как ты меня в дом пустила да добрым словом согрела. Тогда уж и не только они, многие мнение переменили. А сразу-то… Матвей первым кричал, что изменникам Родины в селе делать нечего. А уж Варька Рындина и рада была стараться.
– Ладно, Осип, будет старое поминать-то, – встала из-за стола Серафима, – или больше говорить не о чем? Давайте лучше почаёвничаем, да Никите и отдохнуть с дороги пора.
– Да я ничего, – начал было Никита, но Серафима строго заметила:
– Пора, Никитушка. Не те годы уже, чтобы сон не соблюдать.
– Не те, – согласился Никита.
Чай пили в молчании и уже при звездах. Каждый думал о своем и о всех вместе.
– Пойду, – поднялся Осип.
– Иди, – не стала удерживать Серафима.
– Ты гостя-то дома не держи, – посоветовал Осип, – пусть наши места посмотрит.
– Посмотрит. Ты бы мотор наладил да на рыбалку с ним съездил, а то ведь и сам уже позабыл, какой он, простор-то наш.
– Налажу, – пообещал Осип, – завтра и налажу. Там делов – на два часа…
– Ну и славно. А теперь ступай, на стол не косись, больше ничего не будет. Ступай.
И Осип покорно пошел по тропинке между светлыми проемами стволов.
Серафима быстро убрала посуду, постелила гостю, задернула занавески на окнах и сказала Никите:
– Ну, Боголюбушко, спасибо тебе на веки вечные, что навестил. Уж и не знаю, как благодарить тебя.
– Ну что ты, Сима, – смутился Никита, – чего там.
– Спи, Никитушка, мы еще с тобой наговоримся, – сухими губами она поцеловала его в щеку и ласково повторила: – Спи.
Сама же она вышла из дому и направилась на утес, откуда далеко окрест просматривались днем голубые дали, а по ночам отражались звезды в реке, и казалось, что плывет утес в какие-то неведомые края, мягко покачиваясь на мелкой волне.
Ночь была светлая и теплая. Наверное, одна из последних теплых ночей. Серафима села на круглый гладкий камень, оправила юбку на коленях и закурила. Огонек папиросы тихо мерцал в ее руке, а высоко в небе, круглобоко и ярко, катился в пространство желтый шар…
Глава шестая
Ушла Серафима тайком. Опасаясь погони, на тропу не выходила, пробиралась лесом, по-над сопочками, где любит летом жировать медведь. Несла она с собой маленький узелок с харчем, метрическую справку, в которой указано было, что Лукьянова Серафима Леонтьевна, 1921 года рождения, русская, рождена в селении Святогорье, от брака Охлопкова Леонтия Маркеловича и Охлопковой Дарьи Семеновны, и удостоверение младшей медицинской сестры. Серафима считала, что этого вполне достаточно для того, чтобы попасть на фронт…
Бежала она тайгой, ключи вброд переходила, полная решимости выполнить задуманное, и лишь об одном сердце тревожилось – как-то там Оленька без нее, накормил ли свекор в обед и не забыл ли молоко вскипятить, что в кринке на окне осталось. По летнему времени много ли ему надо – два-три часа, и скисло. Да еще о свекре Петре Гордеевиче думала, жалела, что так и не открылась ему, ничего не сказала на прощанье. Почему-то подсказывало сердце – не стал бы Петр Гордеевич ее удерживать, не перечил бы, а если так, то и на сердце куда легче было бы, да и за Ольгу спокойнее.
Какая-то неведомая сила гнала Серафиму вперед. Она и притомиться толком не успела, как миновала первое село – Славянку. Здесь она еще осторожничала, обошла село за огородами, скрываясь в мелком, но густом ельнике. Пахнуло на нее печным дымом, у кого-то собака забрехала, петух пропел, и заныло сердце у Серафимы, заболело болючее.
«Ах ты, немчура проклятущая, – ожесточенно думала на ходу, – на чужой кусок позарились, да как бы свой не проворонить. Одумались бы, пока не поздно, отступились, а мы не злодеи, простили бы. Всякий ведь ошибается. А может, пока она тайгой бежит, война уже и кончилась? Вот славно-то было бы как. Конечно, кое-кому из ихних хорошенько пришлось бы ответить, ну и не беда. Пакостников завсегда бивали, и ноне люди добрые бьют, потому как заслужил – получай сполна. И ведь зловредный народ-то какой, нет предупредить, раз уж так воевать с нами схотелось, по-честному сказать, так, мол, и так. Куда там, молчком двинулись, по-волчьи. Этак волки завсегда подкрадываются, втихомолку, но на то он и зверь, волк-то, а тут люди. Нет, эти вряд ли одумаются, раз так коварно пошли, одумаются, держи карман шире».
Бежала Серафима дальше, размахивая белым узелком с десятком картофелин и балыком, мари перебегала, через завалы перелезала, кустами стланика продиралась, и чем дальше уходила от дома, тем больше решимости копилось в ней – воевать проклятого Гитлера.
Солнце уже к заходу клонилось, вечерние птицы запевать начали, а Серафима все бежала и уже верст тридцать, не меньше, от дома отмахала. Но усталости она не чувствовала, лишь опасение было, что не поспеет завтра к пароходу и придется тогда еще три дня в лесу скрываться, пока следующий подойдет.
«Лишь бы до города добраться, до Хабаровска, – думала Серафима, – а там народу уйма, там не найдут».
Что она будет делать в городе, к кому пойдет, к кому обратится – Серафима представляла смутно, но думала, что все как-нибудь обойдется, образуется. Ведь она на любую работу согласна, полы будет мыть, за солдатами стирать, лишь бы к фронту поближе, лишь бы польза от нее была.
Совсем уже стемнело, когда Серафима остановилась. Костер разжигать она поопасалась, а нашла поваленную бурей ель и устроилась в яме под ее корнями, набросав на землю еловых лап. Согнувшись в уголке, подтянув колени к подбородку, она развязала узелок, съела три картофелины, кусочек балыка и почувствовала голод. Раньше она его не ощущала, забывшись в мыслях и скором шаге, а теперь лишь растравила аппетит и великим усилием поборола себя от соблазна съесть хотя бы еще одну картофелину.
Звезды тревожно и холодно вплывали к ней в яму, легкий шум от движения множества веток, иголок, листьев, зверьков и птиц шел по тайге, но Серафима хорошо знала тайгу и не боялась. К тому же полная луна взошла из-за леса, и было светло и просторно в тайге, и тени от деревьев переплетались с настоящими деревьями, и все это походило на давно, еще в детстве, виденный сон. Впрочем, может быть, она уже и спала, потому что луна вдруг начала расти в ее глазах, и с каждой минутой становился нестерпимее ее свет, и когда вместо света в глазах осталась только остро режущая боль, Серафима с трудом размежила веки – было утро. Несколько мгновений она не понимала, что с ней и где она, а потому на всякий случай робко и растерянно улыбнулась, а потом вдруг разом все вспомнила, быстренько вскочила, выглянула из своего убежища и, убедившись, что ей ничего не угрожает, пустилась дальше в путь…
До прихода парохода она просидела в кустах, съела еще несколько картофелин и закусила еще одним кусочком балыка. Попила из ключика, что тонюсенько пульсировал прямо из-под камня и прятался в желто-серый мох.
Зубы заломило от ледяной стыни, что шла от самого сердца земли, и Серафима сильно потерла их пальцем. В это время пароход ошвартовался у пристани, и люди дружной гурьбой повалили на палубу. На берегу послышался плач, какие-то выкрики, вздохнула и умерла гармонь – из Семеновки уходили на фронт. Под этот шум и гам, под бабий плач и причитания Серафима прошмыгнула по трапу, перебежала палубу и толкнула первую попавшуюся дверь. Ее охватило грохотом, лязгом железа, далеко внизу она с трудом различила силуэты людей, испугалась и отпрянула.
Устроилась Серафима на корме, между громадным деревянным ящиком и поленницей дров. Здесь ее никто не видел, сама же она в щелки между поленьями хорошо могла рассматривать берег и все, что на нем творилось. Вначале она пожалена баб, что голосили у самого трапа по своим мужикам и протягивали им какие-то узелочки, которые пьяные и хмурые мужики никак не хотели брать. Потом она рассердилась, так как бабы все голосили и голосили, а теплоход стоял на месте.
– И чего голосят, – вслух подумала она, – чего голосить-то напрасно? Война идет, мужикам воевать надо, а они, дуры, рады бы их под подол упрятать. Ну а кто тогда на немца пойдет? От дуры! Ну, поплакали, погоревали, да и честь надо знать. Зачем же мужиков напрасно расстраивать? Нет, ревут и ревут…
Плыть надо было весь день и еще ночь. День Серафима в своем закутке кое-как продержалась, а к ночи стало невмоготу: ноги затекли, ломило шею и позвонок. К тому же она сильно хотела пить. Замирая на каждом шагу, прячась за ящиком, прислушиваясь, Серафима осторожно выбралась из закутка и… нос к носу столкнулась с Осипом Пивоваровым.
– Сима! – Осип от изумления вытаращил глаза.
Серафима же растерялась только в первый момент, а потом быстро сообразила, что кому какое дело до нее: едет в город по делам, вот и все. В больницу. Рожать хочет, а пузо не растет, вот и поехала к доктору. Не звонить же об этом на все село.
– Ну, чего вытаращился-то? – не очень уверенно начала она, но решительно справилась с собой и насмешливо добавила: – первый раз бабу увидел? В лесу вырос, что ли?
– Дела-а, – опамятовался Осип. – Ее Матвей дома на пристани ловит, а она вон куда уже укатила. Ловко. Ну и баба Матюше досталась. Сохатый, а не баба! На фронт?
– На базар, – отрезала Серафима, разом потерявшая всю робость и нерешительность.
– А ты че на меня-то вызверилась? – удивился Осип. – Я же не Матвей, ловить тебя не собираюсь.
И Серафима успокоилась, тихо спросила:
– Наши-то все уже знают?
– Вчера еще узнали, – усмехнулся Осип и закурил, и в свете спички Серафима заметила уважение в его глазах. – Матвей твой напился, бегал по селу, искал. Грозил застрелить, если найдет.
– А Оленьку ты видел, Осип?
– Сегодня видал. Петр Гордеевич с ней на пристань приходил, Матвея усмирять, а то он разбушевался, к самому капитану полез тебя искать.
– Ну и как она? – Серафима заволновалась, затеребила котомку.
– Как же ты решилась? – Осип покачал головой. – Ну и баба. Мужика бросила, дочку оставила, ну… – и неожиданно закончил: – Молодец же! Этак ведь не каждая решится. А Ольга твоя нормально. Играет. Обыкновенно. Что ей, еще не понимает.
Серафима успокоилась и неожиданно пожаловалась Осипу:
– Пить хочется, сил моих нет.
– А чего у тебя в узелке?
– Картошка. Еще три штучки осталось. Хочешь?
– Ты подожди меня здесь, – заторопился Осип, – подожди, я сейчас.
– Смотри, Осип, – начала было Серафима, но Осип тихо и решительно перебил ее:
– Я, может быть, гордый за тебя, – серьезно сказал он, – что ты наша, деревенская, и на такое решилась, а ты мне чего буровишь?
Серафима смутилась и отвернулась к берегу. Только теперь, кажется, поняла она свой поступок в полной мере. Но удивления не было, а было крепнувшее чувство, что она поступила правильно.
Сидели в том же закутке. Осип притащил все, что ему надавали в дорогу, а были здесь вареные яйца, кусок окорока, отваренная горбуша с картошкой, буханка деревенского хлеба, банка варенца, прошлогоднее варенье из смородины, лук, маленький пупырчатый огурчик и бутылка самогона.
За бортом парохода проплывали одинокие домишки бакенщиков, маленькие, в несколько дворов, деревушки, порой вплотную к реке подступали высокие скалы, а порой далеко окрест тянулись пойменные луга, залитые светом луны, и множество проточек и озерков холодно отражали в себе этот свет. И тихо было на земле, так тихо, что не верилось, не хотелось верить в то, что где-то идет теперь война и кто-то умирает в эту минуту напрасной смертью, а кто-то готовится умереть, потому что войны без смертей не бывает, потому что война – кровожаднее самого кровожадного зверя, какого когда-либо придумывала земля.
– Наши еще кто-нибудь есть? – спрашивала Серафима, держа в одной руке кружку с самогонов, а во второй – с варенцом.
– Нет, – покачал головою Осип, – меня, паразиты, зачем-то продержали, а теперь вот я один иду… Тем веселее было, кучей ушли. Хотя все одно, давай выпьем.
– А за что, Осип?
– За победу! Чтобы мы Гитлера скорей побили и все домой вернулись… Давай, Сима!
Осип выпил. Выпила и она. Задохнулась, но быстро справилась, не вдыхая воздуха, глотнув молока.
– Уф-ф!
– Х-хе!
– Как вы ее глушите?
– Зар-раза!
– Обожгло, а кишки-то не железные, поди.
– Ничего… Крепче будут.
Серафима ела жадно, сама себе удивляясь, а Осип знай подкладывал ей кусочки повкуснее и добродушно смотрел, как она аппетитно и хорошо жует.
– Там, чай, мужики приставать будут?
– У меня пристанут!
– А как ты на фронт добираться будешь?
– Доберусь. Едут же туда фершала, вот я к ним санитаркой и попрошусь. Метрику я взяла…
– Одной метрики мало.
– Хватит. Там русская написано, вот и хватит.
– Еще выпьем?
– Нет, я не буду. Голова кружится, а еще ехать сколько надо.
Осип выпил и грустно сказал:
– Мать совсем плохая. Слегла. Наверное, её Тонька в город к себе заберет. А в городе без молока и воздуха она зараз пропадет.
– Ничего, бог даст – поправится. В войну люди завсегда сильнее становятся. Я это по себе знаю: как осерчаешь на кого, откуда силы берутся, кажется, горы бы свернул… А чего, Осип, ты ещё не женился? Вот бы невестка-то с матерью и осталась.
– А если такая, как ты? – усмехнулся Осип.
– И я бы осталась, – спокойно ответила Серафима, – ты бы пошел, а я осталась. Я и Матвею так говорила, а он не понимает! Уперся, как пень еловый, и все тут. Его броня завлекла хуже невесты.
– Как-то там будет? – вздохнул Осип. Хмель его не брал.
– Хорошо будет, – твердо сказала Серафима, собирая остатки еды. – Побьем мы его, вот увидишь. А так бы зачем нам и ехать?
Спали они, привалившись спиной друг к другу. Вахтенный матрос заглянул за ящик, увидел их, тихонько присвистнул, улыбнулся и ушел. А солнце взошло, заглянуло в закуток и осталось, мягко лаская их юные головы, и когда проснулись они, чего-то смущаясь и неловко отодвигаясь друг от друга, прикрылось тучкой, словно глаза смежило.
– Как бы дождя не натянуло, – сказал Осип.
– Нет, не натянет, – возразила Серафима, – вчера солнышко чисто садилось.
– Скоро приедем.
– Да пора уже.
– И чё ты не мужик?
– А зачем?
– Вместе бы воевать пошли.
– А один боишься, что ли?
– Тьфу, боюсь я! Мне за тебя страшно. Баба все-таки. Всякий обидеть может. Наш брат ведь разный бывает.
– Ты какого года, Осип?
– Двадцать второго, а что?
– Рассуждаешь, ровно мальчик ещё… Жениться надо было давно, Осип. Тогда мужик быстрее матереет.
Осип не ответил. Вдалеке, на высоком берегу, показались первые дома Хабаровска, и пароход приветствовал его длинным хриплым гудком.
На сборном пункте было людно, шумно и бестолково. Высокий плотный мужчина в военной форме хрипло выкрикивал фамилии, от толпы отделялись мужики, вставали в неровную шеренгу, переминались с ноги на ногу, приглядывались к соседям, крутили в руках кисеты и портсигары, но закурить не решались. Шеренги споро уводили куда-то, а на их место вставали новые мужики, и военный уже шепотом называл фамилии, придерживая горло рукой. Его щеки были синими от бритья, а глаза красные, как у голубя. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.
Уходили и уходили шеренги, а толпа на сборной пункте все не убывала. Уже давно выкликнули Осипа, и он твердо встал в строй, и твердым шагом ушел вместе с очередной шеренгой, а Серафима все не решалась подойти к военному. Она бы и решилась, так как ничуть не робела, и даже – наоборот, при виде такого количества народа, уходящего на фронт, еще большей решимостью воевать наполнилась, но от военного за версту пахло усталостью. Устал человек до изнеможения, и Серафиме совестно было беспокоить его.
Наконец наступила передышка. Военный достал платок, отер лицо и высморкался. Серафима робко тронула его за рукав. Он не услышал. Тогда она пальцем постучала по руке военного, и он, спрятав платок, медленно повернулся к ней.
– Что вам? – он смотрел и не видел Серафимы.
– Запишите меня, – попросила Серафима.
– Куда?
– На фронт. Я любую работу делать могу.
– На фронте, милая, не работают, а воюют. А вам не воевать надо, а рожать. По возможности – мальчиков. – Он подумал, еще раз взглянул на смущенное и решительное одновременно лицо Серафимы и, видимо, что-то поняв, махнул рукой: – Идите в военкомат, там посмотрят, а я этими делами не занимаюсь.
– Иванов! Кислицкий! Терапян! Воскогонов! Лобанов! – опять выкликал военный, и из толпы все выходили и выходили мужики, каменея скулами и тоскуя растерянными глазами…
Из военкомата Серафима вышла сердитой. Там никто ее и слушать не захотел. Все суетились, бегали по длинным полутемным коридорам, быстро и нервно курили, кричали, слушали сводку из огромного радиоприемника и опять как ошпаренные носились из кабинета в кабинет. Единственное, что ей посоветовала какая-то тощая и длинная женщина с накрашенными губами, правда, в военной форме, это обратиться в свой районный военкомат.
«Ну, это уж дудки, – сердито подумала Серафима, внимательно глядя в крашеный рот дамочки, – это уж ты сама туда поезжай, а я и так обойдусь. Не для того добиралась, чтобы оглобли назад поворачивать».
Она вышла из военкомата, спросила какого-то паренька, как ей добраться до вокзала, и решительно зашагала в указанную сторону. Город выглядел притихшим и пустым. Редкие прохожие не улыбались и не любопытствовали взглядом, ребятишки собирались в кружки и о чем-то по-взрослому беседовали, торопились машины, на станции часто и пронзительно гудели паровозы.
В первый момент станционная толчея сбила Серафиму с толку, закружила, ошпарила каким-то сумасшедшим ритмом. Но она быстро разобралась что здесь и к чему, выбралась из здания вокзала, протискалась по перрону и стала пробираться между бесконечно длинными составами. Были это все товарняки, тяжелые, длиннющие и грязные. Когда трогался какой-нибудь состав, земля вздрагивала, и грохот оглушал Серафиму. Она отскакивала в сторону, считала зачем-то вагоны, очень скоро сбивалась и растерянно смотрела на то, как, грохоча и взвизгивая, несется мимо нее громадная и живая железная змея. В одном месте Серафима наткнулась на солдатские теплушки и долго наблюдала, как суетятся вокруг них новобранцы, молодые и старые, веселые и грустные. Она хотела подойти, посмотреть, нет ли среди них Осипа, но паровоз свистнул, попятился вначале назад, потом сильно дернул вперед, пробуксовал на месте и потихоньку тронулся. Солдатики на ходу уже прыгали в теплушки, кто-то крепко матюкнулся, кто-то засмеялся и поезд укатил.
Серафима устала, хотела есть. Охранники товарняков косо посматривали на нее и что-то говорили между собой, а один из них вдруг направился к ней. Тогда она повернулась и пошла на вокзал.
Как родная меня мать провожала…
Пел какой-то подвыпивший мужичок, ломая картуз и голос, и все с удивлением смотрели на него, а потом подошел милиционер и увел его. Серафима пожалела мужичка, потому что был он плюгавенький, ротастый, пел жалобно и неумело.
До ночи она просидела в зале ожидания, изредка засыпая и вздрагивая от гудков паровозов. Когда стемнело, опять пошла на перрон, и здесь, на первом пути, прямо напротив вокзала, стояли несколько вагонов с большими красными крестами.
Серафима обмерла, сердце у нее часто-часто застучало, в висках заломило и сразу захотелось пить.
К вагонам с красными крестами часто подходили грузовики, и молоденькие девчата в зеленых юбчонках и гимнастерках все носили и носили в вагоны из грузовиков какие-то белые коробки. За ними наблюдал толстый военный с большим мясистым носом и узкими быстрыми глазами. Серафима как глянула на него, так сразу и поняла, что это медицинское начальство и, если кто может сейчас решить ее судьбу, то только этот начальник.
– Товарищ фершал, – обратилась она к толстяку, – я к вам.
– Что?! – вытаращил тот рысьи свои глаза. – Как вы сказали?
Одна из девчонок, набравшая коробок из грузовика выше головы, оглянулась на громкий голос толстяка. Коробки качнулись и, если бы не Серафима, попадали на землю. Перехватив коробки и встав с ними перед толстяком, Серафима решительно и строго сказала:
– Не слышишь, что ли, к вам я, говорю. На поезд…
– Вас Конюхов направил?
– Никто меня не направлял, – сердито посмотрела Серафима на толстяка, – я сама себе направщица. Коробки-то куда несть, в вагон, что ли?
– Нести, – машинально поправил толстяк, как-то смешно поморщившись мясистым своим носом, – в вагон, разумеется. Но…
Серафима повернулась и, не дослушав толстяка, почти бегом бросилась к ступенькам.
– Ой, умру! – через час говорила круглолицая симпатичная Ольга, та самая, что чуть было не уронила коробки, – она ему, товарищ фершал, а Семен Николаевич-то наш опешил, глазенки вытаращил и как завопит: что?
Девчата смеялись. Вместе с ними смеялась и Серафима. Еще через час ее оформили санитаркой и отвели место в узком и тесном купе…
И поезд пошел по России. А и велика же она. Не то что глазом, мыслью разом не охватишь. День и ночь стучат колеса, за окном все горы великие да просторы шальные. Другой раз утонет взгляд в могучей долине, поезд уже сотни верст пробежал, а взгляд все еще там, в той долине, ищет чего-то и не находит, и оторваться не решается.
Больше месяца добирался эшелон к фронту, и за это время Серафима вполне освоилась, привыкла к новым людям, и они к ней привыкли. По вечерам начальник санитарного эшелона, тот самый толстяк, Семен Николаевич, проводил занятия, и Серафима старательным крупным почерком писала в зеленую тетрадку длинные, трудные даже на слух слова.
– Лукьянова, – строго говорил Семен Николаевич, на котором и через месяц форма сидела смешно и нескладно, – а как мы будем производить перевязку предплечья?
Серафима смущалась, путала слова, но отвечала в общем-то верно.
– Хорошо, Лукьянова, – кивал мясистым носом Семен Николаевич, – ну а как ты поступишь, если будет… будет, к примеру, пулевое ранение в области живота?
– Ну, первым делом, остановить кровь…
– Как ты ее остановишь?
– Ну…
– Не нукай, Серафима, – сердился Семен Николаевич, – сколько раз тебе говорить… Ну и как же?
– А вы?
– Что я?!
– Чего нукаете?
– Гм…
Девчата хохотали. Семен Николаевич хмурился, но видно было, что и он едва удерживается от смеха.
– Возьми шприц, Лукьянова. Взяла? Как мы будем делать укол в фронтовых условиях?
А поезд все бежал и бежал вперед и остановился лишь в небольшом подмосковном городке – Подольске. И едва паровоз завел эшелон на запасной путь, как поступила первая партия раненых. Первая – для эшелона. Первая – для Серафимы. Для страны – уже давно очередная.
Как-то в госпиталь поступила девушка-санинструктор. Ее звали Леной, и ранена она была осколком снаряда в правое бедро. Пока делали операцию, эта хрупкая, интеллигентного вида девушка, с мягким красивым ртом, страшно и много ругалась в беспамятстве. Серафима никак не могла поверить, что ругательства принадлежат именно этой девушке, и растерянно оглядывалась кругом. И странное дело, именно к Лене прониклась Серафима любовью и самым большим уважением, на которое была способна в те первые дни.
Через несколько дней Лену увезли дальше в тыл.









